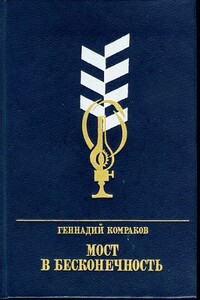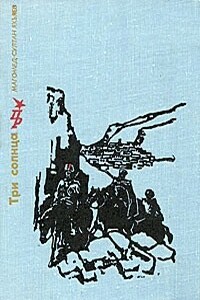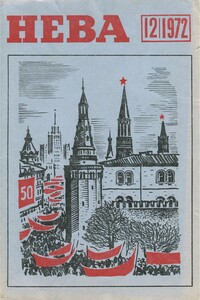Зову живых | страница 109
«Молчать! Нет, только молчать! Ты будешь нем перед ними!» — так сказал он себе тою ночью в своем каменном ящике. Какой может быть разговор с этими господами, с этим статским, и какой толк говорить, если все заранее определено, если выбрали жертву! Пускай судят как знают, все равно его будущее проиграно, а участие в этом деле может только продлить заключение других… Так он думал и ночь и день, возвращаясь памятью на допрос, вновь и вновь повторяя все его извороты и опять начиная с начала, чтобы понять, где же стержень всех обвинений, ключ свода. И увидел, что, в сущности, обвинителям только он, Петрашевский, и нужен, все же прочие — лишь живые улики его умысла. Но чем больше взведенная на него клевета, понял он на другой день, тем хуже будет участь других. Не отвечать на клевету не значило ли давать ей молчанием вес и силу? Нет, не страх его вынудил отвечать, изменить зароку, переменить свой план — нет, не страх наказания, но боязнь за других, мысль, что он — виной их несчастья, опасение следствия а-ля Ришелье. Словом, то, что толкнуло его спустя несколько дней нацарапать своим сотоварищам письма на кусках штукатурки.
А тогда, проведя в размышлениях три дня и три ночи, он потребовал перо, бумаги, чернил.
Он писал о весах справедливости и о законах, о доносе, о клевете, о пристрастии в допросах, обвинял господина статского следователя и просил об его отводе, он повторил об Екатерине и Ришелье и о превосходстве над ним генерала Дубельта и добавил к тому, что теперь поверил рассказам, будто, услыша имя Леонтия Васильевича, люди вздрагивают, как при ударе грома, крестятся и говорят «да сохранит нас сила небесная». И все-таки, даже допуская, что избран жертвой — кому-то нужна! — обещал им более, чем сухое юридическое признание, пообещал им исповедь сердца.
Тетрадь кончилась, он попросил другую. Но трудно оказалось выполнить обещание, слишком мало походило на исповедь то, что стекало с его пера.
«Вы дали возможность невинному доказать свою правоту, — подольстил он господам следователям для начала. — Вот, может быть, первый в России proces de tendances — процесс о стремлениях, суд над идеями, где нет жертв». Не уголовному следствию подлежать это дело должно, а ученому рассмотрению. Пусть назначат комиссию из профессоров, людей образованных, достойных доверия. «Если считаете нас вредными, держите до тех пор взаперти. Но отдайте книги, совещаться между собою дозвольте… дайте средство доказать, что мысль моя — стать во главе разумного движения в народе русском — не была подобие попытки Икара…»