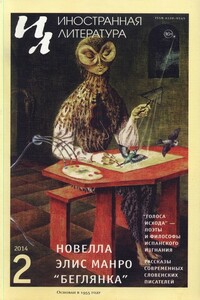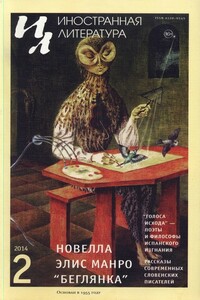Голоса исхода | страница 6
Двуликое божество утилитаризма и пуританства — вот кому могли бы поклоняться здешние жители, почитающие грехом слишком малую прибыль. Воображение чуждо им, как вода пустыне, они не знают великодушного и свободного избытка, только и придающего существованию цель и смысл. И в глубине себя, где спят самые жестокие инстинкты, ты не можешь удержаться от одной мечты: взорвать это скопление административных нор. Не исключаю, что это было бы даже благим поступком, справедливым возмездием за природу и жизнь, затоптанные, оскорбленные и обесцененные всем окружающим.
Одиночество таится для тебя во всем, и все, в свою очередь, таится в одиночестве. Счастливый остров, где ты столько раз укрывался, где жизнь переплеталась с ее обещаниями и куда ты приносил, как с рынка приносят цветы, лепестки которых поздней осторожно раскроются, свое беспокойство, понемногу умиротворявшееся потом картинами и мыслями.
Есть люди, которые спешно глотают жизнь прямо на ходу, это импровизаторы, а есть те, кому нужно от нее отстраниться, чтобы рассмотреть подробней и лучше, это созерцатели. Настоящее слишком внезапно, зачастую полно посмеивающихся над нами несообразностей, и от него стоит немного отойти, чтобы разобраться, чем оно поражает, а в чем повторяется.
Между другими и тобой, между любовью и тобой, между жизнью и тобой всегда одиночество. Но это отделяющее ото всего одиночество не тяготит. И отчего бы ему тебя тяготить? В конечном счете ничему — ни земле, ни традиции, ни людям — ты не обязан стольким, как одиночеству. Каким бы ты ни был, ему ты обязан всем.
В детстве, когда ты ночами смотрел в небо, а звезды казались глазами друзей, насыщая темноту тайной симпатией, бесконечность этих пространств не повергала тебя в ужас, а, напротив, переполняла воодушевлением и доверием. Среди других созвездий там мерцало и твое, чистое как вода, светящееся как уголь, ставший алмазом: созвездие одиночества, неразличимое для многих, очевидное и благословенное для нескольких, к которым ты имел счастье причислить и себя.
Мария Самбрано
Письмо об изгнании
<…> Души Чистилища, мы поодиночке спускаемся в нередко еще не обследованные преисподнии нашей истории, чтобы спасти то, что можем спасти, — неустранимое. Чтобы извлечь из этой затонувшей истории какую-то непрерывность. Мы — память. Искупительная память.
Быть памятью — значит быть прошлым; но не тем прошлым, которое бесследно рассеивается, которое попросту обречено на рассеяние. Напротив. Мы идем, чтобы сверить наш застывший образ с образом неусвоенного прошлого. Если мы прошлое, то потому, говоря по правде, что мы память. Память о происшедшем в Испании. Но такая память внушает ужас. Памяти страшится тот, кто заявляет, что пришел воссоздать прошлое — то в прошлом, что не должно повториться. И чтобы оно не повторилось, его считают нужным забыть. Проклясть прошлое, чтобы оно не произошло снова. Но правда — в противоположном.