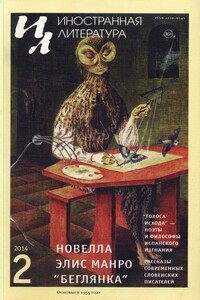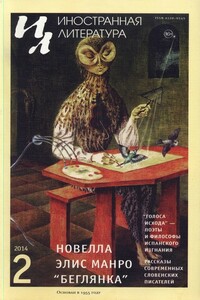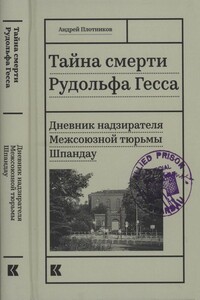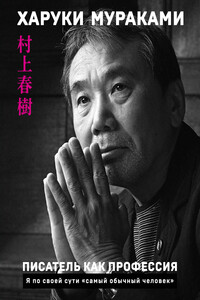Физики и время: Портреты ученых в контексте истории | страница 15
Главным достижением школы Борна в Гёттингене было, без сомнения, превращение квантовой механики в самостоятельную ветвь физики, со своим математическим аппаратом и соответствующим формализмом. В рождении новой науки счастливо соединились гениальная физическая интуиция молодого Вернера Гейзенберга[29], приехавшего в 1924 году из Мюнхена, и математическая изощренность Макса Борна и его бывшего студента и аспиранта Паскуаля Йордана[30].
Как часто бывает в жизни, награды за гениальное открытие получили не все к нему причастные. За создание квантовой механики из этой тройки Нобелевскую премию получил только Вернер Гейзенберг — в 1933-м его наградили премией за предыдущий год. Вклад Макса Борна, который руководил всеми работами в Гёттингене и предложил несколько основополагающих идей, остался как бы незамеченным. Нобелевскую премию он получил только в конце своей научной деятельности — в 1954-м — с формулировкой «за фундаментальные исследования по квантовой механике, в особенности за статистическую интерпретацию волновой функции». Паскуаль Йордан вообще остался обойденным Нобелевским комитетом. Возможно, сыграло роль его членство в национал-социалистической партии в 1933–1945 годах, хотя убежденным нацистом он никогда не был, да и карьерных преимуществ партийность ему не принесла.
Директор Института теоретической физики в Гёттингене не считал себя политическим борцом. Идеал Макса Борна — спокойная работа в «тихом замке науки», как он написал однажды своему другу Альберту Эйнштейну (в письме от 8 сентября 1920 года).
Однако отсиживаться в «тихом замке науки» и не видеть, как вокруг поднимают голову оголтелый антисемитизм и нацизм, стало невозможно.
В 1928 году Борну пришлось на целый год прервать работу и несколько месяцев провести в санатории в городе Констанц на берегу Боденского озера на юге Германии. Здоровье у него всегда было далеко не богатырское, каждую осень его мучили простуды, к тому же он с детства страдал астмой. На знаменитой фотографии участников Сольвеевского конгресса, проводившегося в Брюсселе в октябре 1927 года, второй справа во втором ряду — Макс Борн, единственный среди ученых, многие из которых явно старше него, одет в теплое пальто с шарфом. Сыграли свою роль и запредельные интеллектуальные нагрузки: вокруг профессора сложился кружок необыкновенно одаренных молодых ученых, от которых ему не хотелось отставать. Да и беспокойство о политическом положении в стране, где с каждым днем усиливались позиции национал-социалистов, вгоняло в тоску: он все яснее видел, что антисемитизм — движущая сила нацистов, истинный смысл их воплей о «крови и почве».