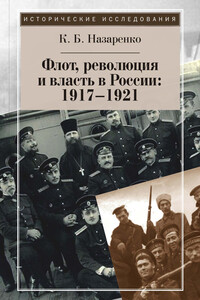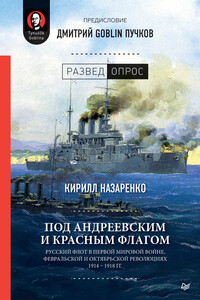«Мозг» флота России: от Цусимы до Первой мировой войны | страница 57
Решающую роль при выборе судостроительной программы перед Первой мировой войной должна была сыграть оценка фактора времени. Если бы русские морские генштабисты смогли сделать вывод о том, что война начнется около 1914 г., они вряд ли настаивали бы на фантастических судостроительных прожектах. Сотрудники МГШ так и не смогли понять, что в условиях короткой передышки между русско-японской и Первой мировой войнами России следовало отказаться от строительства «океанского флота» на Балтике, уделив значительно больше внимания Черному морю. Однако в правительственных кругах Российской империи господствовало представление о том, что война начнется не ранее 1920 г. За десять лет, которые могли лечь между принятием Большой судостроительной программы и началом войны, можно было много успеть сделать. Каприви говорил: «сначала нужно покончить с войной, которая начнется послезавтра, а потом займемся дальнейшим развитием флота»[200]. Мысль генерала Г.-Л. фон Каприви (1831–1899), руководившего в 1883–1888 гг. немецким морским ведомством, а в 1890–1894 гг. занимавшего пост рейхсканцлера, не была принята в России.
Число записок с предложениями преобразований в морском ведомстве все увеличивалось, и 14 апреля 1907 г. начальник МГШ Л.А. Брусилов выступил с предложением ввести четкий порядок рассмотрения подобных проектов, которые теперь должны были поступать не непосредственно к министру, а в МГШ[201]. Официально это предложение мотивировалось желанием разгрузить морского министра, однако очевидно, что одной из целей Л.А. Брусилова в данном случае было взять первоначальное рассмотрение всех проектов в свои руки и устранить возможность передачи их для дальнейшей разработки в Законодательную часть ГМШ.
23 апреля 1907 г. сотрудник МГШ А.Н. Щеглов подал Л.А. Брусилову записку «Руководящие начала для преобразования техническо-хозяйственного управления морского ведомства»[202]. Записка начиналась с исторического очерка систем управления флотом и разбора недостатков системы 1885 г. В качестве образца при реформировании управления флотом А.Н. Щеглов приводит «Схему естественного управления»[203]. Для нее характерно отделение судостроения от судоремонта и создание поста директора нового судостроения, аппарат которого должен был разрабатывать проекты кораблей и проводить их испытания. Начальнику Управления адмиралтейства должны были быть подчинены верфи и казенные заводы, он распределял заказы, руководил деятельностью и оборудованием казенных верфей. На Интендантство возлагалась функция снабжения флота всеми предметами и материалами «кроме боевых и особо-специальных». Эти три управления находились в ведении товарища морского министра. Министру непосредственно, кроме других учреждений, подчинялся Счетный отдел, функции которого у А.Н. Щеглова не конкретизированы, но можно предположить, что он должен был заниматься лишь контролем над использованием выделенных средств. Аналогично центральному А.Н. Щеглов мыслил и портовое управление.