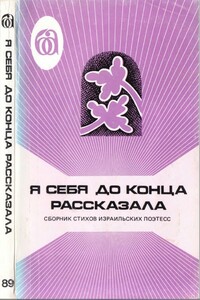Переводы из Рахели | страница 13
Рахель плывет в Эрец-Исраэль. Там, на берегах Кинерета, ее ждет осуществленная мечта. Пусть пока эта мечта не выходит за пределы ничтожного клочка земли, пусть пока она питается энтузиазмом горстки единомышленников. Но именно эта горстка станет лабораторией Нового человека, основой Нового мира! Именно из этой малой искры возгорится пламя – ровное, полезное, управляемое, дарующее тепло и счастье, не похожее на жуткий пожар, пожирающий издыхающую Европу.
Сестра Шошана встречает вернувшуюся счастливицу на берегу, осведомляется о природе кашля, который досаждает Рахели вот уже несколько месяцев. Та отмахивается: “Ерунда, продуло где-то, вот и кхекаю...” Мыслями она уже у Кинерета. Прежние друзья и в самом деле встречают ее приветливо. Работа немного тяжела, но это с непривычки… скоро все войдет в норму – и работа, и счастье.
Но в норму счастье не входит. Приглашенный кибуцниками доктор осматривает Рахель и ставит диагноз: открытая форма туберкулеза. Диагноз становится приговором. Одна из непосредственных участниц тех событий, Двора Даян, мать будущего генерала и министра Моше Даяна, оставила истории дословную формулировку, в которой этот приговор был объявлен Рахели: “Ты больна, а мы здоровы; тебе здесь не место”.
Ее просто выбрасывают за ворота. За ворота кибуца, за ворота Новой жизни, за ворота лаборатории, где куются “счастия ключи” и Новые человеки. Что ж, как писал Уэллс, мир не благотворительное заведение. А Новый мир – и подавно. Проявив некоторую непоследовательность, Новые человеки не ликвидировали неполноценную работницу, а всего лишь оставили подыхать в одиночестве. Бернард Шоу наверняка осудил бы их за малодушие. Куда гуманнее было бы воспользоваться газом.
Как и ее духовные братья и сестры – Осип, Анна, Марина и Борис, – Рахель превратилась в аутсайдера. Да и может ли не стать аутсайдером на полянах людоедского века тот, кто “не волк по крови своей”? Как заметил один из наиболее выдающихся гуманистов, “боль заставляет кудахтать кур и поэтов” (Ф. Ницше). Оставшееся ей время – одиннадцать лет – Рахель скиталась по любимой Стране, бездомная, одинокая, брошенная и друзьями, и родственниками. Переезжала из города в город, из лечебницы в лечебницу. Бедствовала, выживала. И писала великие стихи на иврите – неродном, выученном языке. Свой первый тоненький сборничек “Сафиах” она опубликовала в 1927 году, второй – в 30-ом. Третий вышел в 32-ом, когда Рахель уже лежала в могиле на берегу Кинерета. Ее мертвое тело Новые человеки приняли с охоткой: вреда от мертвых никакого, зато они очень полезны для строительства мифов, без которых не мыслит себя ни один истинный гуманист.