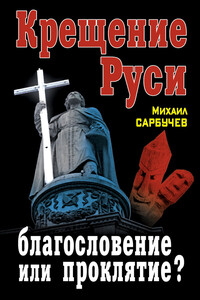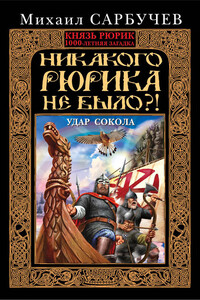Крест против Коловрата — тысячелетняя война | страница 92
Почему же этот «страдательный залог» стал своего рода «мейнстримом» русской духовной культуры? Когда в 1942 году Константин Симонов написал:
(«Если дорог тебе твой дом…», 1942)
это была своего рода революция. Симонов совершенно осознанно спорит с традицией! С традицией изображения доблести, в том числе воинской, исключительно в «мученическом» ореоле. Шока не последовало, потому что на войне, еще раз повторюсь, все средства хороши, а может, потому, что общество тогда было и без того шокировано происходящим, и культурологические диспуты были не к месту. Но обратите внимание, как сначала советский, а затем и российский истеблишмент испытывал заметное неудобство при комментариях потом, когда опасность миновала… каким диссонансом видится текст Симонова с большей частью военной и, главное, послевоенной литературы. («Молодая гвардия» А. Фадеева, например, исполнена почти в канонической традиции жития великомучеников.) Как ту́пили взор школьные учителя, когда речь заходила о «неудобных» строках. Строках, ставших впоследствии «неудобными», а тогда, когда их писал автор, – поднимавших солдат в атаку. Ведь стихотворение Симонова – не что иное, как поэтическое осмысление пресловутого приказа народного комиссара обороны СССР № 227 от 28 июля 1942 года, известного также как «Ни шагу назад!». Что же случилось потом? Не иначе писателям «приказали» решать тему исключительно в мазохистском ключе. Кто? Ясно – не Церковь. Но каким образом в российском сознании был сформирован этот «комплекс Иова»? Этот комплекс настолько въелся в мозг, что даже доказательство собственной победы мы выводим от размера потерь в войне. Хотя со времен Гнея Помпея известно, что нанесение противнику максимального урона в живой силе есть форма победы. (Именно так действовал в свое время великий русский полководец Михаил Кутузов.) Кто и почему предлагает нам столь сомнительные смыслы наших же исторических событий?
Недавно Первым каналом был представлен красиво снятый, с большим бюджетом и мгновенно ставший знаковым фильм «Адмирал», где один из ключевых эпизодов связан с ликом этого христианского святого. Эпизод, кстати, не имевший ничего общего с реальностью! Реальную икону Колчаку передал вовсе не государь император, а именно Распутин. Тут мы сталкиваемся с почти «официальной» сусальной историей о Колчаке, так позитивно и «православно» поданной киноиндустрией. После просмотра фильма, наверное, должно сложиться впечатление о Верховном правителе как о фанатичном монархисте и истовом христианине. Несомненно, воспитанный в рамках доктрины православие – самодержавие – народность, Александр Васильевич не мог быть атеистом, а вот насчет его преданности делу монархии – фильм бесстыдно врет. Реальный адмирал Колчак приветствовал приход Временного правительства, более того, собирался баллотироваться в Учредительное собрание. Так что историчность образа, созданного Хабенским, под большим вопросом. Почему именно он? Ведь были и другие яркие личности в Белом движении. И снова у нас поблизости из кустов торчат «аглицкие» ушки. Ведь именно о Колчаке в свое время сказал Черчилль: «Это единственный в России, с кем можно иметь дело!» И образ «многострадального Иова» как будто освящает слова английского морского министра. Ясно, что Иов – это не просто «историческое совпадение». Это – символ. Более чем странный символ для главы великой державы (тем более для диктатора, каким объявил себя Колчак). Ты страдаешь, тебя грабят, убивают, насилуют – и в том есть великий «промысел Божий», но как только «дубина народной войны» адекватно отвечает – тут коллективное сознание (не без помощи «агитпропа») совершает какой-то фантастический кульбит и начинает осуждать адекватность ответа. «А не слишком ли адекватно мы отвечаем?» Что это? Необходимая плата за столь своеобразное понимание «национального единства»? Единство в нищете? Единство в обиженке? Или попытка сформировать новый «национальный код»? Неожиданным эхом этого малинового звона отдается строка Высоцкого «мы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие». Какое будущее может иметь нация, осознающая себя исключительно как коллективный «страстотерпец»? И какую роль в формировании этого комплекса сыграла Церковь? Думается, значительную.