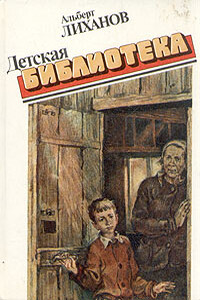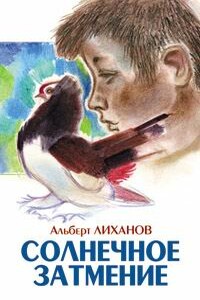Никто | страница 107
Кольча вспомнил те полешки в Доме ребенка. Каждый из людей поначалу такой вот полешек. И сколько их, брошенных? Но если взять – и не бросить? Это значит, спасти человека. Так должно быть, но вот – не стало. Ни у тех полешков, ни у него.
Топорик представил себя вот таким беспомощным, глазеющим по сторонам кульком, ничего еще не соображающим, никакой такой беды не понимающим, и кровь ударила ему в голову. Таким он и добрался до своих пятнадцати лет – ничего толком не соображая. Плыл по течению.
Но вот пора остановиться, встряхнуться, понять, ухватиться за берег, взойти на него и жить.
Он ненавидел, злобно, до сердечного гула ненавидел неизвестную свою мать. Оставить его этаким вот беспомощным полешком – да как она сумела, смогла, посмела? За что наказала его вот этой сегодняшней его неприкаянностью, ненужностью, одиночеством? Первый раз он с удивлением подумал хорошо о полупьяных мамашках, бродящих по интернатскому двору – бесстыжие, срамные, стыдные, они в тысячу раз лучше матери… нет, женщины, родившей его и тайно канувшей в неясность, скрывшейся, сбежавшей, даже пусть умершей – ведь и смерть не извиняет это постыдное убегание…
Значит, подумал он по-взрослому, я должен подрасти, получить специальность, обязательно жениться и родить ребенка. Только тогда между ним и его дитем – не важно, кто это будет, – появится ниточка. У его ребенка будет он, отец, и этот его невидимый пока малыш, конечно, обопрется о него, а он обопрется на это будущее маленькое создание. И этот маленький человек спасет его, да, спасет.
У каждого человека есть две нити – от родителей и от собственных детей. И если одна нить оборвана, его держит другая, пусть даже если протягивается она от слабого, от маленького и бессильного. Это кажется – от бессильного. На самом деле сын или дочь – великая сила. Только не дай Бог, чтобы и эта ниточка не порвалась.
Мать! Где ты? Кто ты? Почему? Кольча мучительно, до слез в бесстрастных своих глазах, пытался вообразить ее облик – лицо, руки, одежду. Но ничего у него не получалось. Никаких намеков даже не подавала ему его младенческая память. Не кроилась его внешность и из мозаики встреченных им женщин – поварихи тети Даши, воспитательниц, не дай Бог, вроде Зои Павловны, и уж совсем спаси, из частей образа парикмахерши Зинаиды, вернее, множества Зинаид, встреченных им в разнообразных обстоятельствах, – с неподвижными, ничего не выражающими подбородками, равными им по ширине лбами – этакие овальные брикеты с наклеенными сверху волосами разного цвета, с одинаковыми отверстиями для глаз, носа, рта, размещенными лишь чуть выше или чуть ниже относительно лба и подбородка… Эти Зинаиды давно уже слились в его сознании в стандартную болванку, не выражающую чувств, но он бы согласился и на самую убогую и стандартную форму головы, окажись только это частью матери, его матери, пусть полупьяной, шепелявой, вонючей – лишь бы объяснила она хоть что-нибудь, пусть самую бесстыдную ложь рассказала, пусть только бы протянула от себя эту ниточку, соединяющую людей в невидимую цепь…