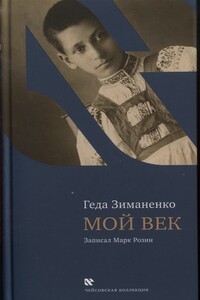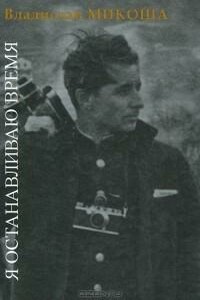Сталинским курсом | страница 24
Наконец, доведенный до отчаяния, почти потерявший рассудок, больной, искалеченный, я сдался… Как сквозь сон помню, кто-то подсунул мне какую-то бумагу, схватил мою дрожащую безжизненную руку, вложил в нее перо и провел неуверенными движениями по бумаге, шепнув на ухо: «Вот здесь!»
«Вот и молодец! Давно бы так, — сказал следователь. — Курить хочешь?» Он подвинул ко мне пачку папирос и услужливо зажег спичку. Затем подошел к двери и крикнул кому-то: «Принеси-ка что-нибудь пошамать!» Через пять минут на столе появились масло, белый хлеб, сдобные булочки, сахар и чай с лимоном.
«Кушай, брат, кушай, — угощал «друг», — да и с собой возьми в камеру».
После этого меня перевели в тюремную больницу, где давали усиленное питание и немного подлечили. А затем выписали в камеру и вскоре отправили в лагерь, где я отсидел десять лет.
С тех пор я часто задаю себе вопрос — разумно ли я поступал тогда, упорно отказываясь признаться в преступлениях, хотя и не знал за собой никакой вины. Освобождения я не добился и все равно отсидел десять лет. Надо было сразу подписать состряпанное на меня обвинение. Не стоило подвергать себя пыткам, чтобы стать инвалидом и калекой. Вот я и советую вам — не упорствуйте, соглашайтесь на все, что они вам предложат подписать. У вас еще будет надежда, что через десять лет, а может быть, и раньше, вы выйдете на свободу, если с умом и толком приспособитесь к лагерному режиму. Правда, я знаю случаи, когда человек проявлял стойкость до конца, проходил весь арсенал пыток, и следователи ничего от него не могли добиться, и в конце концов его выпускали на свободу. Но это уже был калека со свернутой челюстью, с выбитым глазом, поврежденным слухом, с вышибленными зубами. Думаю, никто из вас ему не позавидует и не пойдет по его стопам.
Еремеев умолк. Вся камера была потрясена его рассказом. Никто не решался нарушить тяжелое молчание. Наконец кто-то спросил:
— Ну, а как же вы отсидели десять лет и за что снова попали в тюрьму, да еще в Киеве?
— О, это долго рассказывать. Освободился я в 1939 году. По ходатайству брата мне разрешили прописаться в Киеве, и вот уже с год я работал на одном заводе. Здесь я был на хорошем счету, и никто не мог упрекнуть меня в чем-либо.
— А ваша семья?
— Семьи у меня нет. Жена умерла, детей не было, я так вдовцом и остался.
— Но почему же вас снова посадили? — допытывался все тот же паренек.
— Понятия не имею. Думаю, за то, что я уже сидел, и этого было достаточно, чтобы считать меня потенциальным врагом нашей родины, а тут Германия напала на Советский Союз, и чекисты решили в первый же день войны изолировать меня как социально опасный элемент. Ведь никаких улик против меня не имеется, разве что какой-нибудь клеветнический донос, что по нормам НКВД является основанием для того, чтобы меня арестовать.