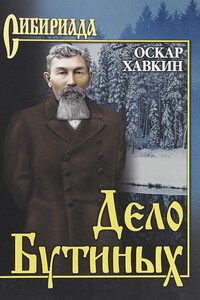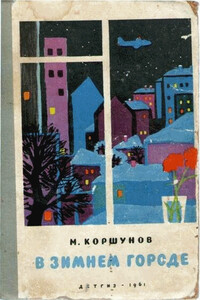Бурундук | страница 15
А Кузя щёлкнул зубами, присвистнул по-разбойничьи, не выпуская ичига, рванулся из Улиного сжатого кулака, пробежал по лесной упади, прыг на ворох сучьев, оттуда скок на дерево и — ну, не нахальство? — насаживает Улин ичиг, как обабок или груздь, на острый сучок на самом кончике ветки!
Уля сорвалась со скамейки, аж доска прозвенела, и как прыгнет, как скакнёт к сосне, попрытче бурундука…
И проснулась: лежит на жёстких нарах с протянутой в темноту пустой пятернёй и беззвучно шевелит губами. Ведь был же, был в кулаке упругий пушистый кончик хвоста, был, ещё ладонь чешется от тугих волосиков, ещё тепло зверушкиной кожи чуялось, был в Улиных руках тот нахальный бурундучок!
Она приподняла голову, вытянула шею. Дверь сайбы раскрыта настежь. Серый холодный рассвет зыбуче и туманно плыл-стекал с хребта по склону горы туда, в долину, к реке, и по пути словно заглядывал и к ним, в низкую тёмную охотничью избёнку деда Савоси.
Она ещё подвытянула шею. Опершись на локотки, почти села. В десяти шагах от сайбы, у обугленных рогулек, похрапывал в спальном мешке дед Савося. Сам-то в мешке, а голова на брёвнышке. Такая у него привычка.
Все спят, кроме Ули. Ей одной Кузя помешал. Папа спит, прикрывшись простынёй и вытянув длинные, голенастые ноги по самый край нар. Лера привалилась носом к мху, проступающему промеж брёвен, и посапывает, временами прерывисто выстанывая, — что-то ей снится? Всё то же, наверное. Все спят, лишь Уле не спится.
Разбудил её бурундук, растревожил. И ещё что-то щемит Улю, и в горле будто першит, а что, отчего — сама не поймёт.
А может, верно, где-то рядом зверок — на нарах, в углу, или под нарами, среди разного хлама, папиных карт и планов, дедкиных туесов, чуманов и лукошек, — сидит Кузя, удобно примостившись, держит Улькин ичиг в цепких лапах и грызёт себе, ухмыляясь, а может, за дверь выскочил, притаился, выжидает, чтобы Улину вторую обутку утянуть в свою нору…
Уля осторожно отвернула край одеяла, тихонько убрала со своей груди Лерину тяжёлую руку и бесшумно, катышем, сползла с нар. Земляной пол обдал пятки холодком. Так, поищем, пошарим вокруг ногой, присядем… Вот же они, миленькие мои, тёпленькие мои, лёгонькие мои, узорчатые мои. И вдруг услышала, откуда-то нахлынуло: «Велики, на следующий год как раз подрастут ножки», — и с нежным щёкотом прикосновение большой, чуть влажной ладони.
И опять защемило. Ведь помнит же, как эти руки натягивали ичиги… Не пришлось маме увидеть эти ичиги, одёванные дочкой… И снова всё ушло куда-то, точно в бледный предрассветный туман — тихий, слабый голос, тёплые, чуть влажные руки…