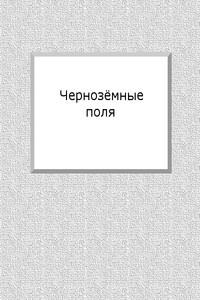Барчуки. Картины прошлого | страница 88
Старый ствол был весь покрыт птичьим помётом; кругом дерева на несколько аршин по снегу были разбросаны перья и всякая дрянь.
— Братцы! Я мышиную лапку нашёл! Совсем в шкурке! — кричал Саша, погружённый в прилежное изучение этих остатков. — Петя, разве сова ест мышей? Разве она кошка?
— А ты бы думал, не ест! — небрежно ответил Петруша. — Небось, не даст спуску: и воробьёв, и мышей, всех душит… Видишь, пуху сколько. Тут их, должно быть, пропасть живёт на одной осине.
— Братцы, знаете что? — предложил Ильюша: — давайте назовём эту рощу лесом ушастых сов?
— Вот это отлично! — в восторге подхватил Саша, который в это время провалился выше колен в сугроб и стоял там, не пытаясь выбраться.
Далёкий благовест церковного колокола едва слышною нотою донёсся в эту минуту до нашего слуха, распространяясь, как по звонкому стеклу, по сплошному льду далеко бегущей речки. Мы замерли на месте, прислушиваясь к этим неожиданным и непривычным для нас звукам. Звон колокола не бывает обыкновенно слышен в нашей глухой деревушке, и теперь в нашем счастливом настроении духа казался нам особенно радостным и особенно праздничным.
— Братцы, слышите? — спросил Ильюша.
— Это, должно быть, в Щиграх звонят, — заметил атаман, не переставая прислушиваться.
— Должно быть, в Щиграх, в соборе, — подхватил Петя. — Патепский колокол сюда не слышен.
— Петя, ведь это по льду разносится? — осведомился Саша. — Ведь летом не слышно звона!
— Конечно, по льду! Слышишь, как гудит: бум, бум, бум… Это наверное в соборе в самый большой колокол звонят.
Мы не двигались с места, а по замёрзшей степной речке нашей всё разраставшеюся волною разносились далёкие торжественные звуки.
Но святочный день — ничто перед святочным вечером. Вся младенческая вера детей и народа в тайну святочных наслаждений вперяется в святочный вечер. Он — и веселие, и страх; маскарад и мистерия; кутёж и сновидение… В нём вся полнота непосредственной жизни и весь трепет чаяний. Пляска, песни, хохот, игры, сласти, гаданья, привиденья, рассказы, леденящие кровь, — вот старый святочный вечер.
Никого нет дома; только старая тётка Катерина Ивановна в своём белом чепчике с оборками, с своею вечно сияющею доброю улыбкою на румяном старушечьем лице.
Наш лазовский дом совсем завалило сугробами. И в саду, и со двора — снег под самые окна. Утром двора совсем не было видно из диванной. Стоит себе белая стена, и больше нет ничего. Даже в зале темно сделалось. Всё утро садовник Павлыч с Мартынкой, конюхом, раскапывал снег между домом и кухнею. Когда Петруша отправился после завтрака кормить собак, мы все выскочили за ним на переднее крыльцо. Вот было смеху! От крыльца до кухни шёл настоящий коридор, такой глубокий, что буфетчик Семён, относящий на кухню блюдо, казался нам на дне пещеры. А кухни, застольной, совсем не видно! Только крыши с трубами торчат сверх снегу. Вскарабкались мы на эти белые окаменевшие стены — даже следа не заметно; как на плиту ступаешь. Бочка воды, которую Михайло привёз на конюшню жерёбым маткам, видна чуть не до полозьев из-за кухонной крыши. С выгона сугробы видно ещё выше.