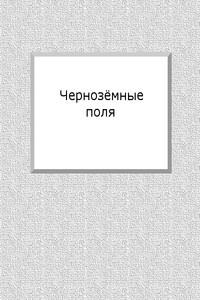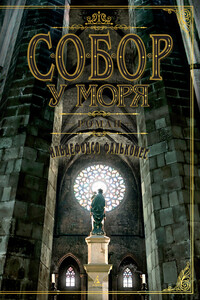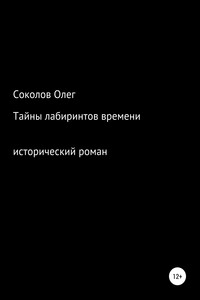Барчуки. Картины прошлого | страница 78
Бабуся молилась долго, часто часа по полтора, особенно под праздники. Случалось, стоит, стоит, да и ударится на пол без сознания… Однако утром, чуть свет, она уже на ногах вместе с мухами. Она никому не позволяла убирать нашу детскую и ходить за нашим платьем. Проснёшься, случится, утром, тревожимый летним солнцем, прожигающим щели ставень, — слышишь в полусне весёлое первое чириканье птиц в саду, первое жужжанье мухи в золотой пыли солнечного луча, столбом прорвавшегося в щёлку, — ощутишь такое счастие бытия, такое наслаждение и ярким утром, и мягкою постелькою, и своим вольным сном, и тем особенно, что пронеслась пугающая чёрная ночь… а уже по полу, слышишь, шуршит осторожно и ровно бабусин веник, и милая старушка наша, опрятно одетая в своё неизменное китайчатое платье с жёлтым горошком, опрятно повязанная и причёсанная, согнувшись в дугу и мягко ступая, тщательно выметает пыль из каждого уголка нашей детской.
Бабуся, впрочем, не производила на нас влияния своей богомольностью; может быть, именно потому, что мы боялись её молитвы. На мою беду, мы часто рассматривали у бабушки в комнате толстую немецкую библию с прекрасными гравюрами, среди которых одна очень удачно изображала эндорскую волшебницу, вызывающую тень Самуила. Сходство молящейся бабуси с эндорскою волшебницею, в моих глазах, было поразительно, и я часто по ночам мучился самым искренним подозрением: не колдунья ли моя бабуся?
Мы подчинялись только внешним образом религиозному влиянию бабуси: нельзя было и подумать лечь спать или пойти утром видаться с маменькою, не прочитав известных молитв. Им научила нас бабуся. Мы приняли их от неё, как дикие германцы принимали крещенье от своих апостолов: мы крепко усвоили себе, что надо становиться в угол перед образом, смотреть на образ, стоять, а не сидеть, почаще креститься и прочесть в порядке все бабусины молитвы. Но понимать то, что читается в молитве, — об этом и вопроса не было.
Мы были уверены, что бабуся имеет такие-то особые отношения и счёты с иконами Покрова Божией Матери, Митрофания-угодника, со всеми лампадками и ладонками, какие были в нашем доме. У нас в доме народ жил всё не сильно богомольный, и понятия его о вопросах религии были достаточно сбивчивы. Поэтому весь этот департамент целиком сдали на руки бабусе; бабуся очутилась чем-то вроде церковной утвари, предметом, без которого в известных случаях обойтись было нельзя. Если в зале у нас отец Симеон служил постом всенощную, или во время засухи всей барщиной святили воду на колодце, то папенька, вообще мало обращавший внимания на подобные предметы, прежде всего осведомлялся, здесь ли Афанасьевна, и очень гневался, если её там не было. Без неё ни за что не начинали службы, девки бежали за нею, и отец Симеон охранял для неё видное место, словно она и в самом деле входила в непременный состав церковного обряда. Кто возвратится из церкви с просвирою, непременно отдаст просвиру бабусе: только она одна знаем, что с ней сделать. В страшные минуты летней грозы, когда ветер срывал и метал по воздуху солому крыш, когда молния огнём обливала бушующий сад и от грома тряслись брёвна старого дома, а смущённые обитатели его беспомощно толпились посреди комнат, ожидая рокового удара, в эти страшные минуты бабуся верующею рукою зажигала перед Корсунскою Божией Матерью страстную свечу. Тогда глаза всех обращались с надеждою в тёмный угол, где на высоком угольнике стояла благочестивая старушка, ещё не отнявшая от свечи сухощавой руки своей, и где мерцал огнём и золотом оклад большой иконы, неожиданно вызванный из мрака.