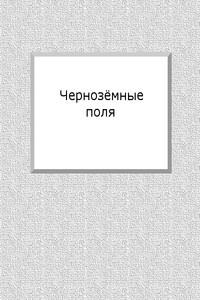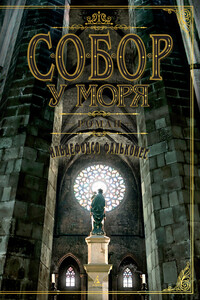Барчуки. Картины прошлого | страница 77
Но — что особенно странно — я боялся самой бабуси. Боялся её в том именно виде, когда она ложилась спать. Раздевалась бабуся поздно, когда мы все уже притихнем. Бесшумно, как тень, постелет она на полу свою постель, и худая, седая, в белой рубашке по пятки, медленно опустится на колени перед Покровом Божией Матери. Свеча, которую она всегда ставила на полу в медном тазу, чтобы свет не мешал нам спать, как-то необыкновенно странно освещала снизу её хилую фигуру, бросая поперёк всей комнаты, через кроватки братьев, через стену и даже до потолку, длинную чёрную тень, которая беспокойно бегала, ползала и шаталась при малейшем движении бабуси. При нас бабуся избегала молиться и часто дождалась часа по два, пока мы заснём; но я часто, неведомо для бабуси, слушал её молитву. Притаив дыхание, приникал я изумлёнными глазами к этой белой молящейся фигуре и не узнавал в ней свою бабусю. В комнате стоит какой-то строгий монашеский шёпот, и сквозь него слышатся порою какие-то торжественные слова, те самые, что мы с трепетом слушали над гробом покойного дедушки, что читались потом на парчовых налоях, среди множества горящих свечей, из больших чёрных книг во время нашего говенья в патепской церкви. Глаза мои, пристывшие к одной точке, и ухо, укачиваемое однообразным ритмом молитвенных слов, уже мало-помалу начитают терять сознание, голова готова скатиться с подушки, — и вдруг я вздрагиваю: белая фигура с седыми клочьями волос медленно вырастает во весь свой рост, и с нею вместе судорожно вырастает до чудовищных размеров чёрная тень…
«Упокой, Господи, души усопших рабов твоих: раба Авраама, раба Константина, раба Михаила и младенца Ксению…» глухо раздаётся старческий шёпот, и костлявая, почти бестелесная рука замирает в судорожно стиснутом крестном знамении; опять так же бесшумно и неожиданно опускается вниз полуосвещённая белая фигура, и чёрная тень пугливо сбегает за ней с потолка; долго потом не поднимается седая трясущаяся голова от холодного пола; среди мёртвой тишины полуночи раздаются слова, исполненные страха и веры: «Помилуй, Господи, грешную рабу твою Агафью и прости ей прегрешения, яже вольные и невольные, яже словом или делом, или помышлением, яже ведением или неведением»…
Бабуся молилась долго, часто часа по полтора, особенно под праздники. Случалось, стоит, стоит, да и ударится на пол без сознания… Однако утром, чуть свет, она уже на ногах вместе с мухами. Она никому не позволяла убирать нашу детскую и ходить за нашим платьем. Проснёшься, случится, утром, тревожимый летним солнцем, прожигающим щели ставень, — слышишь в полусне весёлое первое чириканье птиц в саду, первое жужжанье мухи в золотой пыли солнечного луча, столбом прорвавшегося в щёлку, — ощутишь такое счастие бытия, такое наслаждение и ярким утром, и мягкою постелькою, и своим вольным сном, и тем особенно, что пронеслась пугающая чёрная ночь… а уже по полу, слышишь, шуршит осторожно и ровно бабусин веник, и милая старушка наша, опрятно одетая в своё неизменное китайчатое платье с жёлтым горошком, опрятно повязанная и причёсанная, согнувшись в дугу и мягко ступая, тщательно выметает пыль из каждого уголка нашей детской.