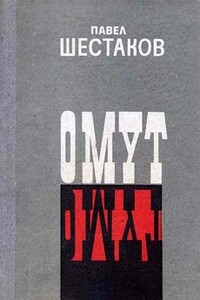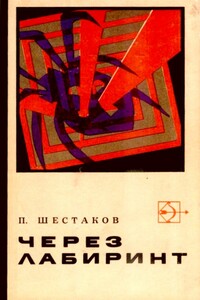Самозванец | страница 4
Так он позвал себя…
Хочется сказать старороманным слогом — добрый старик пришел в трепет. Но мы не знаем, сколько лет было «старику» и принадлежал ли он к робкому десятку. А придумывать нет смысла, потому что все, о чем пойдет речь дальше, фантазию превосходит. В свое время Ф. М. Достоевский справедливо заметил, что писатель не может воображением превзойти действительность. В данном случае это особенно верно. Будем же следовать за самой жизнью, уважительно останавливаясь там, где она не позаботилась поведать своей тайны.
Пока архимандрит размышляет над запиской, не зная, как поступить (в итоге, по утверждению Н. М. Карамзина, «решился молчать»), путники удаляются от Новгорода.
Но не в сторону Путивля.
Верхом проехали они недолго. Едва скрылся за лесом город, братья съехались, переговорили вполголоса и объявили отроку, что решили продолжать путь пешком, как и подобает людям смиренным, божьим.
Что ж, слуга рад вернуться побыстрее.
Святые отцы благословляют отрока на прощанье.
Юноша нахлестывает лошадей, а путники, «провожатого от себя отбиша», меняют маршрут.
Поведет их теперь не монастырский отрок, а некто плохо известный нам человек, «отставной монах», которого С. М. Соловьев именует Пименом. По другим источникам, путники «в Новгородке Северском вождя добыша Ивашка Семенова и пойдоша на Стародуб». Впрочем, имя «вождя», то есть нового проводника, существенного значения не имеет. Гораздо важнее, куда ведет «отставной монах».
Если рассмотреть на карте местоположение трех городов, окажется, что Стародуб находится от Новгорода-Северского в прямо противоположном направлении, чем Путивль. Но не это главное. Главное, что Стародуб — город «порубежный», пограничный. Вблизи него четыреста лет назад, там, где ныне сходятся Брянская и Гомельская области, проходила граница государственная. Понятно, почему были обмануты архимандрит и его отрок. Путники запутывали следы, направляя возможный розыск и погоню в сторону Путивля. Но и этого казалось мало. Требовалось обсудить все до мелочей.
Хорошо сказано у старинного автора.
«Монахи же шествие творяху, и от солнечного жжения возседше под древом. Гришка открыл совет свой и рече…»
Так и видишь эту живописную группу, укрывшуюся от припекающих весенних лучей в тени зеленеющего дуба, а может быть, и вековой сосны, укрывшуюся от солнечных лучей и людского глаза.
Что же рече человек, названный Гришкой? Нетрудно сообразить — это тот рыжеватый, со странным хмурым взглядом, что только что подписался другим совсем именем.