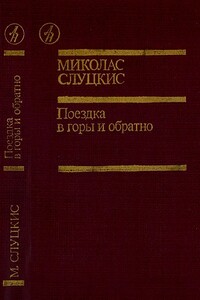На исходе дня | страница 67
— В специальные послеоперационные палаты мы помещаем всех перенесших операцию: более внимательный надзор и так далее… Неужели не понятно? — Не следовало размягчаться… Оба они, особенно девушка, все поняли и устыдились. Пытаясь скрыть от них свой внутренний разлад, Наримантас почерствел. — Оставьте номер телефона. Когда посещения будут разрешены, мы вам позвоним.
— Какие еще звонки?
— Извините, доктор. Мой брат хотел сказать, что у нас нет телефона. Мы приезжие…
— Что хотел, то и сказал! С места не сойду! С милицией погоните?
— Зигмас, Зигмас! Ты что обещал? — Девушка коснулась дергающегося плеча брата, и от ее легкого прикосновения его рука успокоилась, угрожающие взмахи прекратились. — Пожалуйста, не сердитесь, доктор… — В голосе ее, чуть хриплом, неожиданно прозвучала нежность, которую невозможно было объяснить только извинением за брата. Что это, женская хитрость, чтобы расположить к себе врача, растопить его недоброжелательность? Или способность интуитивно почувствовать замешательство другого человека, проникнуть в его душу глубже, чем хотелось бы самой? И сразу, чтобы брат снова не вскинулся: — Доктор лучше знает, Зигмас!
Л что я знаю? Знал? Буду знать? Ненароком она ударила по самому уязвимому месту… Еще недавно считал, что кое-что знаю, но потом знание обратилось незнанием, давящим и все усиливающимся. То же, что может вскоре проясниться — ведь должно оно проясниться! — придавит еще тяжелее.
— Вот что, милые мои! Заглядывайте. Операция прошла успешно. Состояние больного удовлетворительное. А пока, прошу прощения, меня ждут…
Но не уходил, не решался уйти, словно и от этой минуты зависела возможность что-то прояснить. Юноша, названный сестрою Зигмасом, укрощенный, но ненадолго, снова напрягся, как натянутый лук. Круглое лицо девушки — оно действительно становилось скуластее от волнения — сияло нежностью, так не сочетающейся с несколько грубоватой внешностью и неуклюжей фигурой. Ясно, что где-то в другом месте она выглядит красивее и изящнее. Наримантас не сомневался, что встретится с ними, что ему придется видеть их угрюмые глаза, глаза Казюкенаса — действительно глаза у обоих отцовские… теперь он будет вынужден по-другому смотреть на Казюкенаса, терзаться из-за своей невольной вины. А в чем я виноват? Я ведь посторонний! Разве виновен я в том, что отец бросил их, и, вероятно, не вчера, а много лет назад? Самое главное — спокойствие больного. И так у него этот неожиданный послеоперационный шок! Не хватает еще нервного шока!.. Ну нет, я не спятил! Любой врач на моем месте… Господи, сколько вокруг запутаннейших историй, медикам приходится сталкиваться с ними чаще, чем следователям; одни слушают и вздыхают сочувственно, другие отыскивают в исповедях больных крупицы истин для философских размышлений или курьезы для увеселения застолья, а большинство старается поскорее забыть чужие беды, ибо самим надо жить, надо работать. Наримантас всегда стремился избегать близости с больными и их родственниками — размякаешь, когда превращаешься в исповедника. И какое я имею право, билось у него в подсознании, выслушивать, тем более судить?! Все силы пришлось собрать, всю свою твердость, чтобы прогнать мелькнувшую перед глазами картину: приобняв за плечи брата и сестру, ведет он их вверх по лестнице, к отцу…