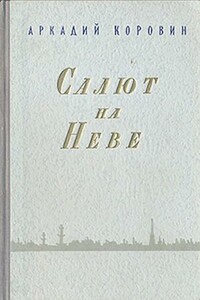Ключи от дворца | страница 92
На нарах заворочался Борисов, и Алексею послышалось, что он вздохнул.
— Ты что не спишь?
— А ты?
— Видишь же, занят.
— Вижу и знаю чем… Поэтому и скажу тебе откровенно — ложился бы тоже, а с этим успеется…
— Ты что в самом деле? Да это же наш последний святой долг перед ними… «Успеется»! — вспыльчиво повторил Алексей. — От кого угодно, а от тебя, командира роты, никак не ждал.
Борисов долго молчал, было в этом молчании нечто похожее на оскорбленность. И вдруг он заговорил уже иным, жестким, даже явно неприязненным голосом.
— Может, я так и сказал потому, что командую ротой уже не первый месяц и видел побольше твоего… В деревнях и так воем воют от похоронок, а ты торопишься. Если б чем хорошим обрадовать, тогда и впрямь торопись, спеши, хоть и телеграмму посылай, а то, что сейчас делаешь, может и подождать… Я бы, откровенно говоря, завел другой порядок: пропал без вести — и точка. А вот, когда выгоним немцев, когда добьем их, тогда само собой прояснится, кто остался жив, кто нет. Зато вот она, победа! А что из того, если ты, допустим, напишешь моим в тот же Барнаул, что, мол, так и так, остался ваш Ромка под тремя березками у высотки сто десять…
— Да перестань ты об этом, Роман, на ночь глядя, — примирительно произнес Алексей. — Пусть не доведется никому и ничего подобного в твой Барнаул посылать… ни сейчас, ни после победы.
— А это уж не нам с тобой знать, товарищ политрук, — коротко заключил разговор Борисов и натянул на голову шинель.
7
…Хотя бы у него оказалось время мысленно разобраться во всем, что предшествовало этому черному дню, проследить, доискаться, узнать, где и когда именно он ошибся. Пусть не сможет сообщить об этом товарищам, повиниться перед ними в своем невольном промахе, но все-таки легче было бы помирать, если этот промах не такой уж тяжелый, допущен им не по легкомыслию, не по мальчишеской беспечности. И перед Варварой он тогда бы не испытывал терзающих укоров совести. Она ведь сама знала, на какую опасность идет, уговаривать ее не пришлось, и не он, не он по какой-либо своей неосторожности или прямо ротозейству привел в конце концов эту опасность к порогу ее хаты.
Избитый сразу же при аресте, Лембик, кинутый в подвальную черноту камеры, с самоосуждением думал о происшедшем сегодня…
А ведь год, ровно год, начиная с того дня, как по осенней степи отошла в сторону Дебальцево прикрывавшая отступление своей части цепь красноармейцев и Нагоровка оказалась под немцами, ровно год он был для них недосягаемым, неведомым, хотя и насолил вдоволь. Понятно, не сам, не в одиночку, помогали верные люди. Та стена на машзаводе, что на прошлогодние ноябрьские праздники припечатала к земле едва ли не половину комендантской команды вместе с ее духовым оркестром, стала только зачином, первым грозным предвестием. Прибавлялись и прибавлялись на кладбище кресты с торчащими над ними буро-зелеными каскадами… Прибавились и после того, как на перегоне между Динасовым заводом и Матвеевским разъездом подорвали эшелон, направлявшийся в Миллерово. И после того, как от взрывчатки, подброшенной в уголь, которым топили печь, взлетела караулка на химзаводе. И после пожара на товарной рампе, где, перебазируясь, выгружался один из армейских складов. Но что известно немцам о причастности его, Лембика, ко всему тому, что их здесь так допекало? Что им известно о нем самом? За этот год он так свыкся с личиной того человека, под именем которого жил, — дальнего родственника Варвары, — что не узнавал в зеркале самого себя. А что уж говорить о других!.. Даже Игнат, старик Осташко, кому полагалось бы за версту по походке и всем повадкам опознать друга, даже он попал впросак.