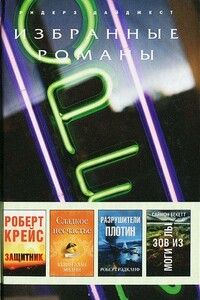Ключи от дворца | страница 48
Не раз после занятий Алексей и себе приказывал: проще, проще! Надо огрубеть. Да, вот то, чего надо поскорей достигнуть: огрубеть! Именно этого от него добивалась, требовала война. Отрешиться, как от никчемной обузы, от всего лишнего, безжалостно выжечь из души любые поблажки себе, снисходительность, уступчивость. Сейчас с неприязнью вспоминалось, что всего за месяц до войны, когда в оранжерее парка высаживали цветочную рассаду, он вложил столько сил и души, чтобы достать семена гладиолусов, канн, пионов, и сам увлеченно подбирал их сорта, заботясь о красивых и разных оттенках. Цветы нужны были парку, школам, новобрачным; цветами встречали у рудничного ствола шахтеров, перевыполнявших план… А ведь оранжереей по-стариковски мог заняться и Лембик, а он, Алексей, уже тогда должен был готовить себя к другому… Во всяком случае, чаще заглядывать в ту комнатушку — ее выделили в подвале, — где хозяйничали осоавиахимовцы… Теперь надо нагонять упущенное… И по утрам, бреясь в умывалке и поглядывая в зеркальце, Алексей был доволен, замечая, как он изменился. Лицо стало худощавей, энергичней, собранней. Порыжевшие на солнце брови и ресницы. Крепкий, темнивший кожу загар.
12
Изменился не только он, изменились все. И, вероятно, со стороны это было еще заметнее.
Как-то в воскресенье к Цурикову приехала из Самарканда находившаяся там в эвакуации жена. Осташко в этот день дежурил на проходной. Он чаще других попадал в наряд именно по воскресеньям. Ведь ему не приходилось ждать увольнительную и дорожить ею так, как дорожили те, чьи семьи находились тут же, в Ташкенте, или где-либо поблизости. Об увольнении и не заикался. Оно ему было без надобности. Даже выручал товарищей, не раз дневалил за них в казарме, в столовке, на проходной, как сегодня. Отправив посыльного разыскать Цурикова, он с любопытством поглядывал на сидевшую у ворот шатеночку. В полосатом, местной, узбекской, выделки платьице, вся какая-то уютно-домашняя, среднего, если даже не ниже среднего роста, она казалась совсем не парой нескладному, рослому доценту, их неизменному правофланговому.
Цуриков вышел из ворот, и надо же было видеть в эту минуту оторопелое лицо жены.
— Боже мой, Гриша, какой же ты стал! — не решаясь кинуться ему на шею, всплеснула она руками.
— Какой? Хм… — прервавшимся от волнения голосом шутливо переспросил Цуриков. — Покрасивел?
Он приподнял ее за локотки и стал целовать.
— Не знаю… Не знаю… Но ты не такой, — плача и смеясь от счастья, повторяла Цурикова. — Не такой, как был, совершенно другой.