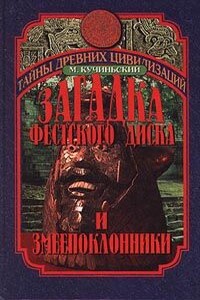Возрастной шовинизм | страница 14
II. В Комсомол голосуют
Помнит Сенька собрание. Ребят в клубе, что в овине снопов. Чухарев за столом, важный, серьезный - председательствует. Сенька в уголку, дружка своего, соседа Гаврика, за рукав щиплет. - Что тебе? - Скоро дела текущие? - Долго! - и опять слушает Гаврик, что говорят. В текущих делах будут Сеньку голосовать в Комсомол. И когда взял Чухарев анкету, посмотрел на Сеньку лукаво, ухмыльнулся, - дрогнуло в Сеньке сердце, застучало, громко, размашисто, на весь клуб, как мельничный жернов. - Как, ребятишки?… Проголоснем!… Дружно вскинулась изгородь рук. - Раз, два, три… Опустите. Единогласно!… - Приняли, - шепчет Гаврик и ласково стукает Сеньку по хребту. - Приняли, - отозвалось в маленьком, напряженном теле. И видит Сенька, как из угла щурится Ленин, зацвели улыбкой лукавые губы, точно и он, Ленин, радости Сенькиной рад. И слышит Сенька, как вьявь: - Смотри, тов. Потапов, не осрамись, будь хорошим комсомольцем! В груди чаще-чаще крутится, жжет маленький, трепетный жерновок. - Буду, дедушка, буду! - отвечает Сенькино сердце. После собрания подошел Чухарев, жаркий, с лицом розовым, как в бане пропаренным. - Завтра, сынок, протокол с постановлением о приеме в Уком перешлю. Уком рассмотрит, утвердит и билет членский вышлет. Тогда и будешь настоящим комсомольцем, а пока потерпи. - А вдруг не утвердят? - Раз собрание приняло - все пойдет гладко. - И анкету читать будут? - Конечно. - Страшно, - трясет Сенька головой, прыгают рыжие, мягкие завитушки: - Еще не понравится что: люди ученые. Плохо я бумагу мараю, как воробышек лапой. Долго еще с Чухаревым беседовал, до дому спровадил, на крылечке посидел и пошел к своему двору спать.
III. Тятька волынится
Тятька ничего не знал, не ведал. Но бабы все первыми ловят, а у соседки Маврухи язык верстой не измеришь. Сидит мамка в шомуше, как от ноеты зубной покачивается, стонет. - О-о-о, лихо мне с мужиком постылым. Сына не уберег. Не хотелось и замуж за рыжего! Вцепились в сарафан Грунька с Феклой, да Иван с Петром - всем коллективом воют. - Аксинья, - кричит тятька, - не расстраивай! - Не кричи. Я не раба! - Чем я виноват? Сама родила. - У-у - лиходей! Своим тестом квашню замешивал. Господи, боже мой, несчастная я страдалица, и ребята-то все рыжыми уродились. Ходит тятька по горнице, глупо по сторонам озирается, бороду рыже-красную пощипывает. Лежит Сенька на полатях - дыханье свое услышать боится. - Сенька! - Что? - Слазь к отцу. Видел ты, как мать расстроена? Поговорить. - Мне, тять, и отсюда слышно. - Будешь упрямиться - запорю! - Я в милицию заявлю. - Опять запорю! - А я Михаилу Ивановичу Калинину жалобу пошлю. - Повтори! - Чего повторять. Надо уши иметь. При Советской власти пороть ребят воспрещается. Ты, тятька, декретов не знаешь… - Замолчи! Какое слово сказал. Опять что-нибудь о налоге пророчишь. Как плети у тятьки руки вдоль туловища повисли. Простить? Обидно: не спросясь ушел. Избалуешь парня. Наказать? - Неудобно. До центра дойдет. И так - не так, да эдак - не эдак. Густеет злоба, огнем палит. Вполз на полати, спугнул на пол, стал за уши теребить. Орет негодяй - извиненья не просит. Раскалились уши, аж пальцы жжут. - Хватит? Еще могу! Молчит. - Какой гордый стал. Не разговаривает. Что дальше будет? Ступай, выпишись!… Вывел Сеньку на улицу, тумака в затылок влепил. - Говори: глуп был, не понимал. Смотри. Хуже будет. - Выпишусь, - плачется Сенька.