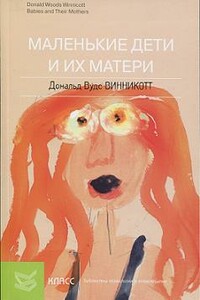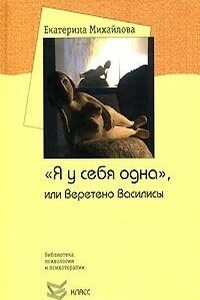Наука быть живым: Диалоги между терапевтом и пациентами в гуманистической терапии | страница 127
Тем временем, пока я забавлялся подобными размышлениями, эта женщина, посылавшая такие мощные невербальные сигналы, говорила откровенно и совсем не эротично.
— После аварии я была в гипсе почти год и не могла ходить в школу. Моя мать, как только оправилась после своих ранений и смерти папы, попыталась обучать меня дома. К нам нерегулярно приходил домашний учитель, но чаще всего я была предоставлена сама себе. Это было такое одинокое время. Я помню, как лежала и смотрела в окно на играющих детей, хотела выйти на улицу и поиграть с ними. Затем наступал вечер, и я начинала бояться. После аварии я стала бояться сумерек. Я просила мать побыть со мной, по крайней мере, пока не стемнеет, но она должна была готовить ужин и не могла оставаться со мной подолгу.
— Одинокое пугающее время.
— Да. — Быстрая благодарная улыбка. Немного слишком благодарная за такой простой ответ. Действительно ли это было так? Не преувеличены ли ее реакции? Да, но не это придавало ей сексуальности. На самом деле это почти рассеивало ее притягательность.
— А потом, весной, мать обнаружила, что у нее рак. Это было уже слишком. Она пыталась сохранять мужество, знаю, но я могла слышать, как она плачет у себя в комнате. Я пыталась не показать ей, что слышу, как она плачет, и изо всех сил старалась сделать ее счастливой. Она так страдала, знаете, и, казалось, как-то съежилась. Думаю, после аварии у нее просто не осталось никаких сил. Это ее убило. Сразу после Дня Труда она умерла, и... — Она тихо плакала. Я сочувствовал этой женщине, оставшейся сиротой в одиннадцать лет.
— Это любому трудно выдержать. Особенно маленькой девочке.
Она кивнула, вытерла глаза, еще немного поплакала и посмотрела на меня с улыбкой, которую в романах прошлого века непременно бы назвали "наигранной".
— Простите, я веду себя как ребенок.
— Вы мне вовсе не кажетесь ребячливой.
— С вашей стороны очень любезно говорить так. — О, эти разглагольствования! Она казалась мне слишком сладкой, слишком правильной. Куда девался ее эротический аромат? Черт меня подери, если он все еще здесь. Это было странно, но каким-то образом она одновременно и отталкивала меня своей слащавостью, и притягивала. Я невольно спрашивал себя: что будет, если отшлепать ее по голой заднице? Это меня удивляло.
— Я ушла жить к брату моей матери и его жене, тете Джулии и дяде Беннету. Мне не было хорошо с ними. Тетя Джулия не любила меня. Она пыталась относиться ко мне с пониманием, я знаю, но по ночам я слышала, как они спорили и упоминали мое имя. Наконец, однажды вечером... — Она снова заплакала,— тихо-тихо.