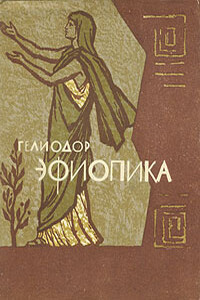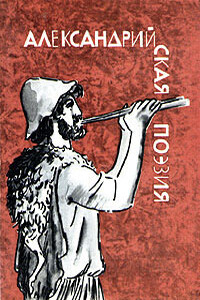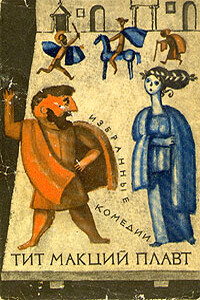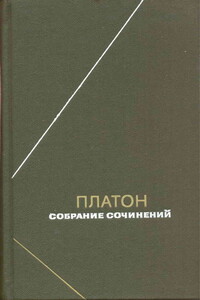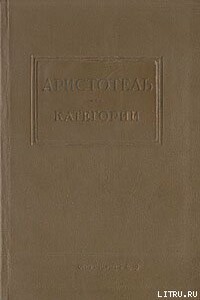Избранные диалоги | страница 30
Теория творчества, развитая Платоном и несостоятельная в своем алогическом содержании, несомненно, связана с социально-политическим мировоззрением Платона. Деятельность высшего искусства отделяется у Платона от ремесленного искусства, от выучки, от рациональных методов мышления и художественного действия. Искусство тем самым возносится в высшую сферу, а художник становится на социальной лестнице выше профессионального мастера, принадлежащего скорее к классу, или разряду, ремесленников. Способность к художественному наитию превращается в признак, определяющий место художника в социальной иерархии. Искусство ремесленников признается, сохраняется, но оценивается как «несовершенное», как низший род искусства.
Но в этой — идеалистической по содержанию и реакционной по своей социальной направленности — теории творчества таился своеобразный гносеологический корень. Как во всяком крупном построении идеалистической мысли, в теории Платона может быть выделена черточка или грань истины. Только черточка эта безмерно преувеличена Платоном, раздута в некий мистический абсолют. Грань истины состоит в правильно подмеченном «заразительном действии искусства, в его удивительной способности захватывать людей, овладевать их чувствами, мыслями и волей с силой почти неодолимого принудительного внушения. Преувеличение, допущенное Платоном, очевидно. Диалектика художественного восприятия всегда есть единство состояния и действия, не только пассивное и бессознательное подчинение художнику, но и осмысленный акт понимания, истолкования, суждения, одобрения или недоумения, приятия или отвержения. В этой диалектике Платон односторонне выделил и осветил лишь одну — пассивную — сторону акта восприятия. Но осветил он ее гениально, с присущей ему философской силой и проницательностью, с удивительной художественной рельефностью. В «Ионе» и в «Федре» даны яркие изображения захватывающей и внушающей («суггестивной») мощи произведений большого искусства. При всех особенностях отдельных видов искусства, при всем различии между творчеством автора, исполнителя и зрителя или слушателя искусство, утверждает Платон, в целом едино. Его единство — в силе художественного внушения, в неотразимости запечатления. Сила эта сплачивает всех причастных к искусству людей и все особые виды искусства в целостное и, по существу, единое явление.
Сведение творчества к «одержимости» и к гипнотической впечатляемости стирало грани между творчеством художника, творчеством исполнителя (актера, рапсода, музыканта) и творчеством зрителя, слушателя, читателя: и художник, и исполнитель, и зритель одинаково «восхищаются» музой, как это понималось в первоначальном смысле слова «восхищение», означающего «похищение», «захват». При этом оставлялись без внимания специфические различия между творчеством автора, исполнителя-посредника и воспринимающего произведение. Зато подчеркивалась мысль о существенном единстве творчества — понятого в качестве восприимчивости к художественным внушениям или впечатлениям.