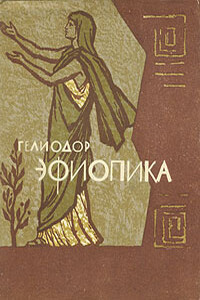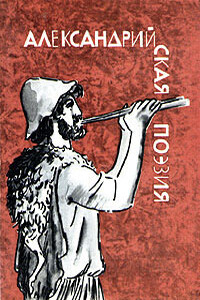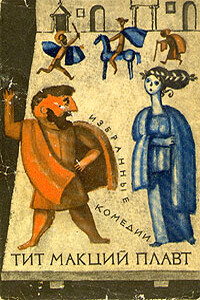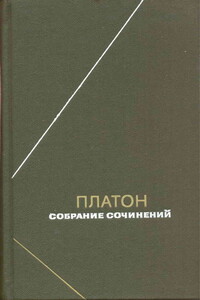Избранные диалоги | страница 28
Смешение совершенно различных понятий — художественной правды в изображении и алогической одержимости, «соприсутствующего» воображения и исступленного вдохновения — в одном неясном и неразъясненном понятии — «быть вне себя» — выступает особенно резко в том месте диалога, где Платон пытается доказать, будто увлеченность воображения исполнителя «сопереживаемыми» сценами, которые он воспроизводит своим искусством, с точки зрения здравого реалистического смысла должна представляться чем-то совершенно алогическим и даже не лишенным комизма. «Так что же, Ион, — донимает своего собеседника Сократ, — скажем ли мы, что находится в здравом рассудке тот человек, который, нарядившись в расцвеченные одежды и надев золотой венец, станет плакать среди жертвоприношений и празднеств, ничего не потеряв из своего убранства, или будет испытывать страх, находясь среди более чем двадцати тысяч дружественно расположенных людей, когда никто его не грабит и не обижает?» (там же, 535 D).
Таким образом, в способности произведений искусства действовать на людей, «заражать» их теми чувствами и аффектами, которые запечатлены в произведении автором и передаются публике исполнителем, Платон видит основу для утверждения, будто художественный акт иррационален, а его источник — действие потусторонних божественных сил.
Как это обычно бывает, идеалистическое заблуждение философа не просто вздорный вымысел, но имеет свой гносеологический корень. Таким корнем для Платона оказалась действительная двойственность акта исполнительства, совмещение в нем противоположностей. С одной стороны, исполнитель доносит до своего слушателя, зрителя образ и замысел автора. В этом смысле он исполнитель авторской воли, передатчик авторского видения жизни. Но с другой стороны, передать это видение, довести до сознания публики авторскую волю исполнитель может только с помощью средств, которые ему вручает личное понимание и истолкование, личная увлеченность и личная взволнованность. Их направление и результат никогда не могут в буквальной точности совпасть с видением мира автора, с его эмоциональной настроенностью, с его волевой направленностью. Поэтому всякое исполнение всегда есть истолкование, не может не быть интерпретацией. Тождество авторского произведения и исполнительской передачи невозможно.
В этом единстве противоположностей, образующем живую ткань творчества исполнителя, Платон выдвинул и подчеркнул только одну сторону: полную будто бы пассивность исполнителя, его безвольность, отказ от собственной деятельности, погашение собственного ума, самоотдачу художника-исполнителя велениям чужой и высшей воли. Условием верности передачи Платон провозгласил покорность исполнителя алогическому наитию.