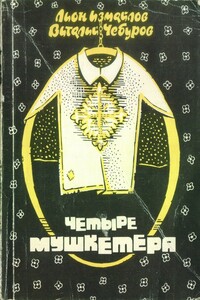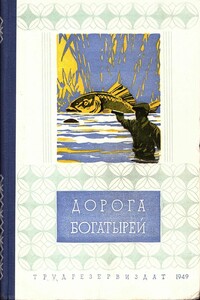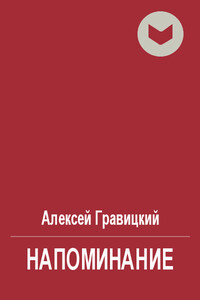Незабудки | страница 30
Я настолько полюбил его за умение слушать и понимать, что мы стали встречаться практически ежедневно.
Друг тоже бросил школу и работал помощником в каком-то портьерном магазинчике.
Хотя сам обладал недюжинными способностями к восприятию искусства.
Недаром ведь познакомились мы с ним не в пивной и не в тире, а в опере.
И одному провидению было известно, как сложится судьба каждого из нас.
22
Сколько помню, я всегда кого-то играл.
В самом прямом смысле.
Я никогда не участвовал во всяческих любительских спектаклях и постановках. Мне было скучно напяливать чужие роли и повторять чужие слова.
Наверное, я мог бы стать серьезным артистом.
Но я постоянно играл одного и того же героя: себя самого.
Поскольку был все время разным.
В зависимости от настроения, состояния и окружающей среды.
Сначала привычка постоянно быть в маске роли возникла у меня, вероятно, из-за морального гнета со стороны отца и школы.
Постепенно я привык, что я всегда — не просто я, а я какой-то конкретный. И играл себя непрерывно, самозабвенно и разнообразно.
Себя поэта.
Себя музыканта.
Себя завзятого театрала.
Себя художника.
Себя оратора.
Себя разочарованного жизнью человека.
Признаюсь, что дома я иногда пробирался тайком в мамину спальню и репетировал самого себя перед висевшим около ее кровати большим зеркалом. Отрабатывал — сам не знаю, для чего и для кого — выразительные позы и жесты. Проговаривал перед молчаливым стеклом целые речи, следя за выражением собственного лица и предугадывая реакцию несуществующих слушателей.
К счастью, мама ни разу не застала меня за таким занятием.
Иначе она бы еще чаще называла меня помешанным.
Но в самом деле умение не быть собой, а постоянно играть самого себя сильно помогало мне жить в чужом и враждебном мире, который открывался за дверью моей комнаты.
Не играл никого я только перед двумя людьми.
Перед мамой и своим единственным «римлянином» другом.
Не знаю, правда, в состоянии ли были даже они понять, какую разницу в общении представлял я для них и для всех остальных.
23
На первый взгляд я казался открытым и простым.
Мои голубые глаза в детстве — и до сих пор — наполнялись слезами по всякому поводу, кажущемуся достойным.
Меня — как всякого художника — было очень легко обидеть. Грубым словом, неприятным взглядом. Да еще бог знает чем. Мама рассказывала, что маленький я постоянно капризничал. Выросши, перестал — это не подобало мужчине. Но обидчивость моя, вероятно, врожденная, росла и укреплялась качеством моей души.