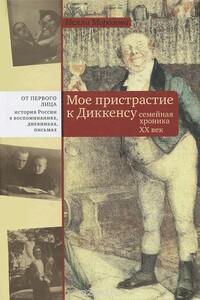Унесенные за горизонт | страница 67
Иногда он посмеивался над моими сетованиями в письмах о разнице в возрасте и над моей «опытностью»: «и вообще, ты очень молода душевно и поэтому, как безусый юноша хочет казаться пожившим мужем, так и тебе хочется казаться видавшей виды, познавшей жизнь и состаренной ею солидной дамой...».
«Моя милая Кисонька. К тому моменту, когда я должен получить от тебя письмо, я строю многоэтажное здание сообщений, мыслей, фактов, но когда сажусь отвечать, все это проваливается черт знает куда, и взамен всех этих умствований ― громадное, удушающее чувство наполняет меня. Но о чувствах трудно писать, особенно о своих. Это неблагодарная задача ― репортерствовать о своем же поражении. Потому что думать о другом больше, чем о себе, это значит действительно поразить самого себя. Но такое поражение радостно, особенно тогда, когда тот, кто поразил меня, так же поражен и мною. И я счастлив от многих строк твоего письма... Я не хочу больше писать о чувствах. Я хочу их сохранить в себе. Я не хочу освобождать себя от них, расплескивая их словами, даже на страницах письма, предназначенного тебе. Вообще, я потерял голову...»
Далее следовало описание, довольно ироничное, праздничного вечера в день Октября.
«Под вечер пошел трамвай ― народ таки висел на крышах. Приехали на Тверскую. Граждане, гражданки и гражданята ходят по улицам, поют, толкаются и смеются. Посреди Тверской, напротив Моссовета, статуя Свободы горит над черною толпой, как факел. Несколько тысяч ламп замерзшими лилиями повисли над ней. Такой иллюминации я еще не видел. В Москве в тот вечер горело столько ламп, что на сумму сгоревшего электричества можно было построить небольшой заводик. Небо было розовым. И луна была в небе, как глаз с бельмом. У всех приподнятое настроение, все друг с другом разговаривают. Я разговорился с одной недурненькой девушкой, оказавшейся комсомолкой (мне везет на недурненьких комсомолок). Мы пошли с ней в клуб коммунальщиков. На эстраде танцевали русскую, боярышни и боярчики пели душещипательные романсы и острили насчет бюрократов, фокстротов и ТЭЖЭ. Удивительно скудно наше эстрадное искусство! Моя комсомолка в восторге и радостно повизгивает. Говорю в унисон. Удивительно низка культура нашего массовика...»