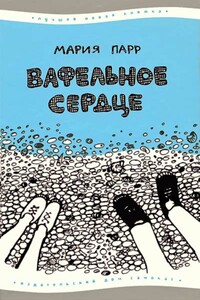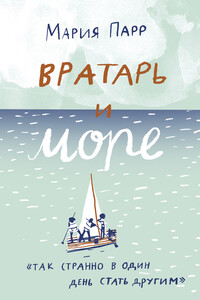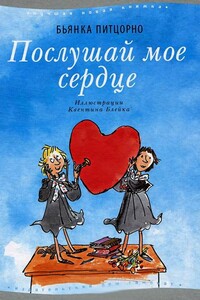Зима, когда я вырос | страница 8
Вечером наша затопленная печка потрескивала. А рядом с потрескивающей печкой стояла угольница, полная угля.
Мы с папой были совершенно счастливы. Мы подловили подушки себе под спины, поставили ноги на перевернутый ящик и раскраснелись от тепла.
Уже минуту спустя папа начал отключаться, хотя глаза у него оставались открытыми. Я корчил ему рожи, а он не замечал. Время от времени он усмехался, отвечая своим мыслям, а не миру вокруг. Когда я сделал губами «п-п-п-п», он вздрогнул и посмотрел на меня удивленно. Я прямо увидел, как он думает: «Ах да, я же тут не один, со мной рядом этот шкет, как славно!»
— Поставлю-ка я вариться картошку, — сказал он. — А ты пока накрой стол, Томас.
За мной дело не стало.
Папа чистил картошку всегда уже в вареном виде. Своими жаропрочными пальцами он торжественно клал картофелины на мою тарелку. У печки грелся чайник от тети Фи с отбитым носиком. В нем еще было немного подливки: тетя Фи умеет сделать подливку из косточки от мяса и половинки луковицы. И еще у нас было яблочное пюре. Я размял картошку, перемешал с яблочным пюре и подливкой и в полминуты проглотил эту сладковатую кашицу.
— Ты чавкаешь, когда ешь, Томас, — сказал папа.
— Я мог бы съесть еще десять таких порций, — сказал я и тут же разыкался.
Всякий раз, когда я икал, мы с папой вздрагивали вместе. Это было весело.
— Голод можно заглушить, — сказал он неожиданно, — а горе — нет.
Ну вот опять — слезы у него в глазах. Чушь какая-то. Я не раз видел у него такие же слезы в самый неподходящий момент, когда мама еще была жива.
— Знаешь, чем можно заглушить горе? — спросил он.
Я не знал, да и не слишком хотел знать.
— Еще более сильным горем.
Я засмеялся.
— Почему ты смеешься, Томас? — спросил он.
— Это от нервов, — сказал я.
— Ты смеешься надо мной?
— Почему ты не ешь? — спросил я.
— Я уже ел вчера.
— Это старая шутка, я ее знаю.
— Этого-то я и боялся. У меня нет для тебя новых шуток, ты слышал уже все мои шутки.
Потом папа сидел за столом один. Перед ним лежала раскрытая толстая тетрадь в обложке из цветного картона. Он выглядел так, словно его где-то колет иголка.
— У тебя болит зуб?
— Нет, — сказал он, — я работаю.
— И от этого тебе больно?
— Вообще-то да, — ответил он. — Тебе этого пока не понять.
— А что же ты пишешь?
— Да все на свете.
— Про войну?
— Нет. После войны прошло слишком мало времени, чтобы о ней писать. А тебе пора спать.
— Почему мы едим всегда черствый хлеб?
— Иногда, бывает, и свежий!
— Я сегодня ел свежий хлеб, мне дали большой кусок.