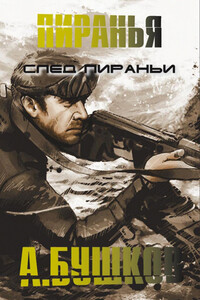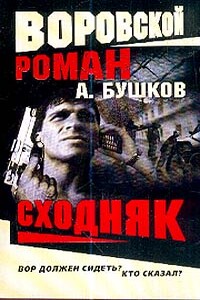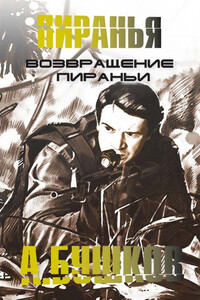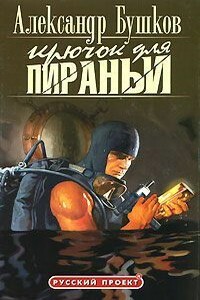Румбы фантастики | страница 5
Проблема «Дожили ли до наших дней?» представляется мне интересной и важной. Но вопрос нужно поставить шире. Фокус интереса должен лежать не только в стремлении скептически (или слишком доверчиво и восторженно) отнестись к тому или другому сообщению, сколько в серьезных, спокойных поисках новых подтверждений. Важны само наше отношение к сообщениям подобного рода, наша готовность принять и проверить, довести до истины информацию, выходящую за рамки привычного порядка вещей.
Юрий Медведев
Предчувствие великой судьбы
Можно предположить наверняка, не рискуя ошибиться: в мире нет ни одного ученого — зоолога или палеонтолога, — который не знал бы основ тафономии — науки об остатках доисторических вымерших животных, изучающей «листы каменной книги» так, как если бы сами ископаемые окаменелости были еще живые. Основы тафономии заложил тридцатипятилетний доктор биологии Иван Антонович Ефремов. Шла война, тяжело больной профессор был эвакуирован в Среднюю Азию, и здесь-то, в перерывах между исследованиями, начал он придумывать первые свои рассказы — «Встреча над Тускаророй», «Озеро Горных Духов», «Олгой-Хорхой», «Белый Рог», «Аттол Факаофо»…
И опять можно утверждать безошибочно: вряд ли найдется любитель фантастики, не знающий этих и многих других, теперь уже классических произведений Ефремова. Достаточно упомянуть «Туманность Андромеды» — первый в научной фантастике роман о коммунистическом обществе будущего, и роман-эпопею «Лезвие бритвы», и антиутопию «Час Быка» — своеобразное «отражение» «Туманности Андромеды», и исторический роман из времен Александра Македонского «Таис Афинская».
Первоклассный ученый и выдающийся писатель — случай не обычный. Воздействие идей и образов Ефремова осязаемо даже в таких выкладках: свыше 70 книг тиражом около 9 000 000 экземпляров издано во многих странах Востока и Запада только за последние 15 лет, минувших после смерти Ивана Антоновича.
В чем секрет такой популярности? Ведь чаще всего случается так, что интерес к трудам литератора, имевшего порою ошеломляющий успех у современников, после его кончины сходит на нет. А в случае с творениями Ефремова все обстоит как раз наоборот: число переизданий с каждым годом растет.
Для выяснения феномена такого рода вернемся в прошлое, в годы военного лихолетья, когда при свете керосиновой лампы профессор писал свой главный труд — «Тафономию»…
Для нынешних литераторов или ученых возраст 35 лет — всего лишь «юношеский», как говорится, время надежд, а Ефремов в эту пору прошел уже сложный, суровый, порою мучительно суровый путь. Двенадцатилетним мальчишкой он прибился в Херсоне к одной из частей Красной Армии, угодил в Очакове под обстрел артиллерии интервентов, его контузило, засыпало песком. Среднюю школу закончил экстерном за три года, затем — Петроградские морские классы. Плавал на Тихом океане, на Каспии. Поступил в Ленинградский университет, стал учеником знаменитого палеонтолога академика П. П. Сушкина.