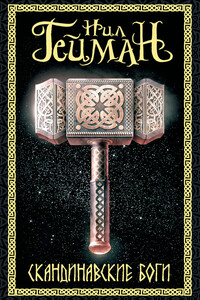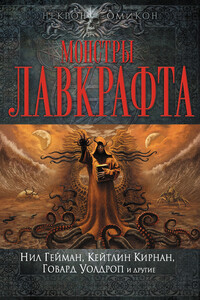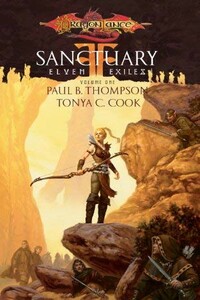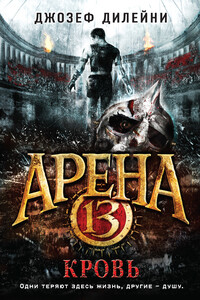Папа сожрал меня, мать извела меня. Сказки на новый лад | страница 90
Она умерла на следующее утро, во сне. Даже на похоронах ее я испытывала только ярость, изливавшуюся из меня, пока все мы стояли вокруг гроба, плача, припадая друг к другу, окропляя красками из ларцов ее руки, — райскими красками, надеялись мы, — а весь остальной город занимался тем временем своими делами. Прикатили носилки с ее плачущим братом. В то утро я пошла повидаться с ней — и нашла ее мертвой, в постели. Такой спокойной. Утреннее солнце, белое и чистое, проливалось в окна. Прежде чем уйти и сообщить кому-нибудь, что она умерла, я просидела час, гладя ее серебристые волосы. Заказ на платье поступил днем раньше, как и было предсказано.
Времени у нас было мало, Черил провела семинар о синеве — и небе, и космосе, и атмосфере, и глубине; хороший был семинар и скорбный, потому что пришелся на первую неделю после ее похорон. Синева. Я была там, но занималась по преимуществу тем, что разжигала в себе это чувство — ярость. Опекала его, будто пламя свечи прикрывала ладонью от ветра. Я знала, что это праведное чувство, знала. Не думаю, что мне удастся когда-нибудь создать платье лучше этого; я еще сделаю в жизни много хороших вещей, еще смогу пережить другие значительные моменты, поделиться с другими опытом человеческой жизни в этом мире, но тогда я знала, что этот миг — главный, и мне надлежит встать с ним вровень. И потому сидела на семинаре, слушая вполуха, просто оберегая ладонью пламя свечи, которым была моя ярость, а после лишь мельком участвовала в окраске ткани, в обсуждении оттенков, когда же они сделали все, что могли, и платье повесили в середине ателье, отчетливо и прекрасно синее, я отправила всех по домам. Ты уверена? — спросила, застегивая плащ, Черил. Иди, — сказала я. Да. Была уже ночь, синева неба угасла, встала молодая луна — значит, найти синее небо я могла только здесь, в мастерской. Оно раскинулось над нами, но оставалось сокрытым. Я подошла к ларцам, прислушалась к аккордам — и вдруг ощутила ее в себе. Призрак ее проходил сквозь меня, пока я составляла смеси и красила платье, я ощущала новую ярость — из-за того, что ей пришлось обратиться в призрака: чувствовала его деликатную мягкость, что соседствовала с резким, пылающим ядром моего гнева, облекала его. И то, и другое водило моими руками. Они выбирали правильные цвета, чтобы смешать их с синим, так много других цветов, а затем и много оттенков синего, и серого, и снова синего, и снова. А я понимала, что грожу небесам кулаками, грожу, воздевая их все выше, потому что так мы и делаем, когда кто-то слишком прекрасный, слишком недооцененный миром, а то и не оцененный совсем, умирает слишком рано: грозим кулаками небу, необъятному небу, большому, синему, прекрасному, равнодушному небу, и гнев наш есть гнев праведный и сильный, и беспомощный, и огромный. Я грозила небесам кулаками, грозила — и все это ушло в платье.