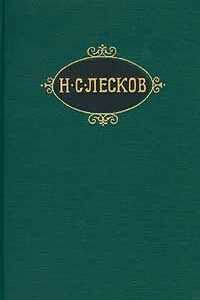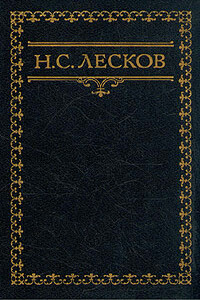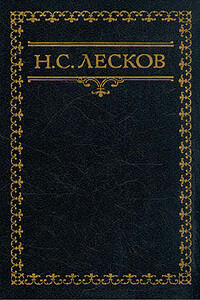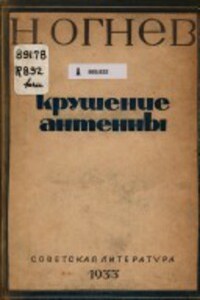Бродяги духовного чина | страница 16
Особенно же тяжело было неподвижное сидение для таких иноков и иереев, которые попортили свою карьеру непоправимо, или для молодых людей, которые не имели надежды "попасть на ваканс" (как это было с тремя священническими сыновьями, которых разыскивал в 1751 г. митрополит Щербатский). Иначе, мне кажется, нечем и объяснять лёгкость, с какою все эти лица пускались в бродяжество, и предположению моему на этот счёт я вижу некоторое, по моим понятиям, сильное подтверждение. Оно заключается в том, что с открытием белокриницкой иерархии или вообще с началом "своего ставления попов" в расколе, побеги из православного духовенства исчезают и прекращаются "сиски о бродягах духовного чина". Отчего бы это такое странное совпадение? Не от того ли, что с этого времени на беглых попов и дьяконов исчезает спрос и им стало некуда бегать из своих монастырей? О монастырях же наших в расколе, конечно, недаром говорят, что они "препитали священством оскудевшее благочестие во все долгие годы, пока там не раздобылись своим архиереем". А как в расколе прекратился спрос на бродяг духовного чина, так и со стороны православного духовенства прекратилось предложение этого ассортимента.
Правда, что в числе виденных нами "бродяг духовного чина" есть монахи и послушники, в священный сан не рукоположенные, а также были и просто "священнические сыновья" и инокини, которые тоже священнодействовать не могут. Но что касается всех не посвященных в сан бродяг мужского пола, то недостаток посвящения им нимало мешал, потому что, имея навык к церковному обиходу, они или добывали себе рукоположение "за рубежом" у единоверных нам славян или в Молдавии и потом были "переправляемы" раскольниками, или же приходили иногда к сим последним с обманом. Брали с собою какую-нибудь "воровскую грамоту" или просто уверяли, будто имеют посвящение, и прямо "переправлялись" и начинали священнодействовать без благодатных даров священства точно так же, как будто они имели на себе эти дары по рукоположению. Случаи самочинства в этом роде бывали в чрезвычайном изобилии.
А что касается инокинь, то они обыкновенно или выдавали себя "за жен" беглых вдовых попов или иеромонахов и иеродьяконов, которые, сбежав в раскол и "переправясь", называли себя "белыми попами" и имели отвагу жить с беглыми, но не снявшими обетов девства, инокинями, как с жёнами, и приживали с ними детей. Пожилым инокиням, может быть, и тяжеловаты были обязанности материнства, но они смирялись и доживали век свой, называясь попадьями или дьяконицами - какая к кому доспела попасть в пору. В большинстве случаев это вовсе не обнаруживалось, но иногда, если и бывало в подозрении, то не преследовалось весьма на этот счёт терпимыми нравами раскола, который выработал себе правило, что "тайно содеянное - тайно и судится". Те же инокини, которые не попадали в сожительство к мужчинам из бродяг духовного чина под видом их попадей и дьякониц, всего вероятнее, продолжали девствовать в раскольничьих скитах, где розыск беглых людей в то время был чрезвычайно труден.