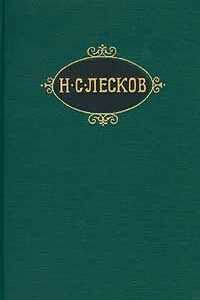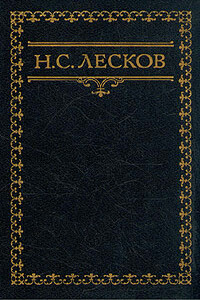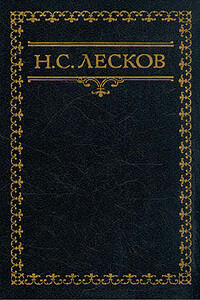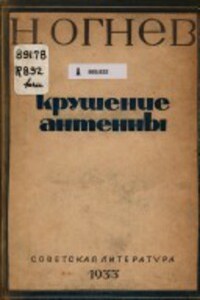Бродяги духовного чина | страница 14
Указ этот впоследствии когда-нибудь, вероятно, отменён, или сюда тоже вкралось влияние "духа времени" и сделало запретное не запретным, а как бы дозволенным. И этому, кажется, надо радоваться, потому что вольнопрактикующие "ранние батюшки" порою бывают очень полезны, а старинное запрещение приходским священникам прибегать в иных случаях к пособию вольнопрактикующих преподавателей духовных треб всё равно было и тогда невыполнимо. Даже более того, - услуги "ранних батюшек", которые тогда рассматривались как "бродяги духовного чина", нередко вызывались неизбежными случайностями, от которых не может считать себя свободным весь человеческий род, а наипаче духовенство. Священник иногда заболевал, иногда утомлялся службою или по другим причинам не успевал сделать всё, что от него требуется, - а требуется от него очень много. И вот тогда "преподавать требы народам" было некому, а от этого "души гибли" и шла большая молва в людях. Между тем, от того, что требы были преподаны "бродягою духовного чина", для душ христианских, по крайней мере, никакой беды не было, ибо они все-таки отходили в неведомый и безвозвратный путь лицом, имевшим "помазание от святого", и притом по опыту уже знавшим все тягости отдалённых переходов.
Таким образом, тип наших "ранних батюшек" возникал из бродяг духовного чина исторически и обозначался, как заместитель, или викарий в приходе. Случаи же такого рода, где подобная подстава была неотразимо нужна, чрезвычайно часты и о некоторых из них сохранились отметки в записях протопопа Могилянского, - например, "по благословению ясне в Богу преосвященнейшего Божиею милостию православного архиепископа переяславского и бориспольского писано золотоношскому протопопу Василью Терановичу, что села Ковтунов священник Иона Исидоров 739 года на вечери под Рождество Христово и на самый праздник всенощного утреннего пения и литургии за пьянством не служил, а на другой день хоть была литургия и обхождение вокруг церкви, но однак на новое лето 1 генваря 1740 года всенощного утреннего пения и литургии и указного молебствия опять не справлял за своим небрежением и крайним бесстрашием".
Разумеется, теперь, стоя на полтора века позднее того, когда совершалось это "бесстрашие" отца Ковтуновского - трудно всё это судить, но как и тогда в обычаях православного народа были те же хождения по приходу перед праздником с молитвою "разговейною", и потом на праздниках "с крестом", то ясно, что и тогда, как и ныне, это не могло не утомлять настоятеля прихода, тем более, что условная вежливость требует, чтобы он оказал честь угощениям, предлагаемым в каждом благочестивом доме. Очевидно, что это может вынести не всякий в духовенстве, и потому, случись тут вольнопрактикующий священник, он бы мог быть очень полезен, ибо мог бы вместо изнуренного настоятеля "преподать духовные требы народам", и были бы совершены все положенные моления на Рождество и в день Нового года.