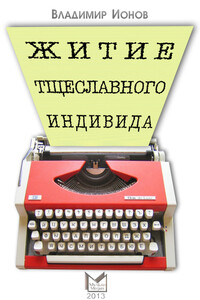Гончарный круг | страница 58
Старик отдавил пальцем кусок глины, а остальной ком накрыл мокрой тряпкой.
Мять глину — дело пустяковое. Вот крутить когда начнет — тут да! Только бы заладилось, да побыстрей бы кончить все! Вот как бы убрать отсюда фонари эти да трещетку Денисову, самому бы по себе сесть, как вчера, как раньше… И вертеть опять же чего? Кринку в тонкий черепок сперва вытянуть, чтобы уж и дело с концом? А ну, как оборвется? Тогда и другое ничего не свертится. С плошки начать? Не хитро больно дело-то. Эко, скажут, тонкость какая — блюдо свертел!
— Не знаю, чего вам и свертеть, — сказал он смирным голосом.
— А чего хотите, дядя Миша. Нам сейчас важен сам процесс, настроение. Попробуйте, что получится. И не обращайте на нас внимания. Не получится — сделаем еще дубль — только и всего.
Старик нахохлился над кругом. Чего вертеть? Криночку бы, конечно, тонкую завернуть! Весной Матрена спихнула с шестка кринку-то его любимую. Двадцать с лишком годов жила! Черная стала из красной-то, а хоть бы где обкололась али треснула. После войны свертел ее, после фронта — в первый же день. В аккурат в такую же вот пору вернулся — сенокосили бабы. Днем с Матреной свиделся, Митьку на коленях подержал, по стопке с Макаром выпили, перекурили встречу, и такая вдруг тоска по глине взяла, что не скрути он сейчас какую посудину — война опять начнется, опять из дому уходить. Оглядел на дворе круг свой старый — куры весь засидели да и лопнул — пересох за войну. Повесил на плечо двуручную пилу, кликнул Митьку и — к лесу, пенька подходящего поискать. Митька потащил к Водяному бочагу: пень там недавно подняло — вот уж пень! И верно, хорошую штуку прибило к берегу. Парень до слез упилился. Дуб-от черный, как уголь, и что железо — зубья у пилы сели. Однако с голодухи-то по мужицкому делу и мореный дубовый комель нипочем стал. Принес круг домой, скинул сапоги и босиком — на яму. Сколько лет босой-то не хаживал, ноги-то будто не свои, не узнают землю, и она всякой травиной колется. Да и то сказать, земля за войну другая стала! Колеи на дороге травой затянуло — ездить-то было не на ком. Короста какая-то, а не земля и под посевами. Стосковалась матушка по мужику, обезлюдилась. Бабенки, поди, из гужей вылезали, да чего они одни-то? Хлеба измельчали. Спасибо, хоть запах-то остался. И льны — по лодыжку, а уж вызванивают… Эх, пригодятся теперь солдатские-то руки, так ли еще пригодятся!
И яма заросла, затянулась, родимая, жерди перетрухли, обвалились. Замусорились Болотниковы копи! Вычистил, обладил всю, вырубил жерди, ошкурил их, чтобы уж все как следует — не на день ведь делал — для всей остальной жизни… Штыковой солдатской лопаткой вырезал из свежей стенки ломоть глины и принес его на ладошках, как подарок несут. Поработал топориком, стамеской, насадил дубовый круг на немецкий подшипник, что еще из Германии трофеем привез! И свертел на новом, мокром еще круге одну разъединственную кринку. Уж вертел круг-то, вертел, вытягивал ее да обглаживал — девке бы любой было завидно, сколько тоски, сколько памяти, сколько ласки на эту кринку ушло. Как стеклянную поставил ее на полку. И для нее единственной собрал печь для обжига. Дрова-то и те взял из поленницы не подряд, а выбрал поровней которые. И обжег ее. Вот уж звонкая-то вышла! Щелкнешь по краешку — и отзовется глубоким матовым звоном. И красивая была! Красная. Полива прозрачная, чуть в зелень отдавала… Поставил эдакое диво на стол перед Матреной и сказал: «Ну, теперь и крестьянствовать можно. Душа на место встала». И Матрена, бывало, молоко по кринкам разливать — ее первую на лавку ставила. Гости какие придут — кринка эта на столе… Это уж потом она почернела, пошла во всякий расход, а сперва как дорогая память была. Такую бы, по делу-то, надо бы скрутить — руки, жалко, не те. А то еще кандейка была — два горшка на одной ручке — в войну в Смоленской области такую посудину видел. На покос после войны кандейку брали. Бывало, сядут с Матреной друг против дружки и хлебают всяк из своего горшка. А то дак в одном горшке — похлебка, в другом — картошка. Потом и другие мужики кандеек себе навертели.