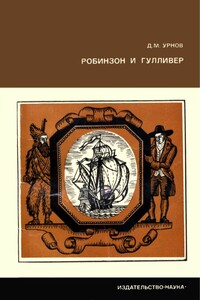Кони в океане | страница 45
Но куда ему до Якова Петровича, если, конечно, верить литературным источникам.
— Нет-нет, — твердил Катомский, — смотри, он самый!
«Воскресил» Всеволод Александрович и еще одну легендарную личность.
— Этот, как его, Хью, — сказал он, — это же просто покойник Кащеев, вылитый Гришка Кащеев!
Хью Бертон на «покойника», какого бы то ни было, вовсе не походил, но был он представителем профессии вымирающей. Боксер без перчаток, кулачный боец и к тому же боец-чемпион был этот Хью. Это был тот самый бокс, кровавый мордобой, которым занимался Байрон, а потом описал в романах Конан Дойль. В те времена разрешалось поймать противника за волосы и расправляться с ним до убою, как было это в битве чемпионов тех дней — между Мендозой и Джексоном, у которого тренировался Байрон. После этого боксеры, нарушая моду тех дней, стали носить короткую стрижку. Но, в общем, в байроновские времена драка на кулаках, как и пьянство, считались признаками «спортсменства» и «джентльменства». «На следующей неделе я, с божьей милостью, надеюсь быть пьян», — во всеуслышанье говаривал лорд Норфольк, а поэт бравировал синяками, которые ему наставили «звезды» ринга того времени.
Теперь это, разумеется, вне закона. Только в Англии не во всех графствах действуют спортивные законы, и вот там, где их сила кончалась, скажем, в Йоркшире, наш новый друг проводил жуткие бои. Когда мы поинтересовались, есть ли у них все-таки правила, Хью только рассмеялся. А в ответ на вопрос, дерутся ли только руками, закатал штанину до колена — с трудом. Штанину закатать было трудно потому, что узка была для бугристого образования величиной с детскую голову на месте икры. А как часто приходится драться? Нелегальный чемпион сказал: «Пока не получу достойный вызов». В ожидании вызова Хью держал при себе бесформенно-огромного человека, величиной с хороший шкаф, которого тузил по утрам до второго завтрака, а после второго завтрака и до вечера он, как и Дик Дайс, пропадал на ипподроме.
— Покойник Кащеев! Покойник Кащеев! — не мог на него наглядеться Катомский.
— Нет, ты пойми правильно, — рассуждал маэстро, — дело не в сходстве. Сходства никакого! Он своим взглядом на лошадь и на меня самого напоминает мне Кащеева. Как тот на отца моего взглядом газели глядел и просил: «Александр Всеволодович, дозвольте взойти и лошадок ваших взглянуть. Я их и дыханьем своим не обеспокою». Был этот взгляд на лошадь, брат ты мой, был! Музыка, туш! Земля дрожит. Публика трепещет. Сам Поддубный подумывает, не уклониться ли ему от схватки с Кащеевым, а этот всеобщий кумир у порога конюшни прощения просит. И какие, брат ты мой, люди за честь считали не то что погладить, а так только, рядом постоять и посмотреть. Каждый из нас имена этих людей произносит с благоговением, а они — «Разрешите только взглянуть!». Ты это и в «Анне Карениной» найдешь: «Всех из конюшни вон! Нечего лошадь перед призом нервировать!» А теперь, ты сам убедился, так и лезут, так и лезут, безо всякого трепета, с расспросами да с ласками. А вот откуда у этого британского костоправа такая деликатность взялась во взгляде на лошадь, кто знает, но я, когда встречаю его, молодость вспоминаю, и видится мне через него и Кащеев, и сам Лев Николаевич, и на душе становится тепло.