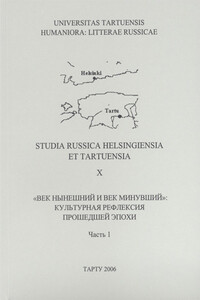История и повествование | страница 24
Я приведу цитату из работы А. Лосева, одного из самых верных и последовательных учеников П. Флоренского (и одного из тех скептиков по отношению к структурной поэтике, поименованных М. Лотманом в его статье о философском фоне тартуской школы, — Лотман М. 1995:215–215), с тем чтобы показать, к каким результатам приводит открытое следование мистической диалектике: «В символе и „идея“ привносит новое в „образ“, и „образ“ привносит новое, небывалое в „идею“; и „идея“ отождествляется тут не простой „образностью“, но с тождеством „образа“ и „идеи“, как и „образ“ отождествляется не с простой отвлеченной „идеей“, но с тождеством „идеи“ и „образа“. В символе все „равно“, с чего начинать; в нем нельзя узреть ни „идеи“ без „образа“, ни „образа“ без „идеи“. Символ есть самостоятельная действительность. Хотя это и есть встреча двух планов бытия, но они даны в полной, абсолютной неразличимости, так что уже нельзя сказать, где „идея“ и где „вещь“. Это, конечно, не значит, что в символе никак не различаются между собою „образ“ и „идея“. Они обязательно различаются, так как иначе символ не был бы выражением. Однако они различаются так, что видна и точка их абсолютного отождествления, видна сфера их отождествления» (Лосев 1991: 48; курсив везде автора). Кроме курсива, как знака определенной деавтоматизации слова, Лосев широко использует и кавычки, также указывающие на некие дополнительные или смещенные обертоны смысла. Ни одно ключевое слово у него не равно себе. Это описание может быть легко использовано в качестве иллюстрации диалектики формы и содержания, но равным образом вполне соответствует сущности трансцендирующего символизма. Для Лосева вполне естественно заключить: «В символе самый факт „внутреннего“ отождествляется с самым фактом „внешнего“, между „идеей“ и „вещью“ здесь не просто смысловое, вещественное, реальное тождество» (Лосев 1991:49; курсив и выделение авторские).
Поскольку Лосев публиковал свои работы в советской печати, он не использовал откровенно мистической, то есть оценочной терминологии, однако его понимание символа совершенно идентично трактовке, восходящей к гностическим, герметическим и каббалистическим традициям. Можно сравнить это определение с определением символа у Гершома Шолема, пожалуй, одного из наиболее авторитетных современных исследователей еврейского мистицизма. «Основные течения в еврейской мистике»:
В мистическом символе действительность, сама по себе не имеющая зримой для человека формы или образа, становится понятной и как бы видимой через посредство другой действительности, которая облекает ее содержание зримым и выразимым значением, примером чего может служить крест у христиан. Предмет, становящийся символом, сохраняет свою первоначальную форму и свое первоначальное содержание. Он не превращается в пустую оболочку, заполняемую новым содержанием, в самом себе, посредством своего собственного бытия, он высвечивает другую действительность, которая не может проявиться ни в какой другой форме.