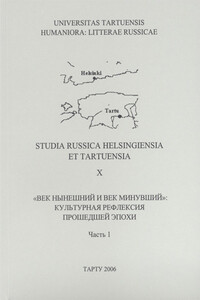История и повествование | страница 23
Что же символично в перспективе Флоренского? «Итак, изображение, по какому бы принципу ни устанавливалось соответствие точек изображаемого и точек изображения, неминуемо только означает, указует, намекает, наводит на представление подлинника, но ничуть не дает этот образ в какой-то копии или модели. От действительности — к картине, в смысле сходства, нет моста: здесь зияние, перескакиваемое первый раз — творящим разумом художника, а потом — разумом, сотворчески воспроизводящим в себе картину. Эта последняя, повторяем, не только не есть удвоение действительности, в ее полноте, но не способна даже дать геометрическое подобие кожи вещей: она есть необходимо символ символа, поскольку самая кожа есть только символ вещи. От картины созерцатель идет к коже вещи, а от кожи — к самой вещи» (выделено автором; Флоренский 1993: 252). Это описание могло бы быть включено естественнейшим образом в записи Ч.-С. Пирса. Оно также видится достаточно органичным определению вторичных моделирующих систем, за одним примечательным исключением. Лотман говорит, что искусство, как и вообще восприятие, создает модели, а модели замещают объект в процессе восприятия. В приведенном отрывке Флоренский скорее отталкивается от подобного экстремального «реализма». Приведенное рассуждение настаивает, что искусство не создает дубликатов и моделей. Его нельзя использовать вместо реальности. Или в качестве реальности. Лотман же во многих трудах, например по театрализации быта, демонстрирует именно ту самую тенденцию, когда текст властно вторгается в жизнь вплоть до полного неразличения, где текст, а где жизнь. Впрочем, Флоренский не был бы мистиком, если бы оставался последовательно на позициях отрицания трансцендирующих возможностей символа. Амбивалентность в определении «что и как» означения, как кажется, прямо связана с диалектическим пониманием «двоемирия», о чем пишет З. Г. Минц в применении к Соловьеву.
Второй тип понимания проблемы означения у Флоренского связан с трактовкой двух типов репрезентации: это ложный натурализм и подлинный символизм: «Идя от действительности в мнимое, натурализм дает мнимый образ действительного, пустое подобие повседневной жизни; художество же обратное — символизм — воплощает в действительных образах иной опыт, и тем даваемое им делается высшею реальностью» (Флоренский 1993: 19–20). Следующий абзац начинается со слов: «И то же — в мистике» (Флоренский 1993: 20). Здесь можно видеть явную отсылку к философии символизма по вопросу о подлинном символическом языке, открывающем истину. Тут еще очень важно, что знак, символ представляет высшую форму реальности, которая замещает натуралистическую реальность повседневности. Именно с таких позиций анализируются православной храм и иконы в «Иконостасе», именно в качестве символов-моделей высшей реальности. То есть это определение вполне совместимо с определением модели по Лотману. Разница между мистической семиотикой Флоренского и позитивистской семиотикой Лотмана лежит не в конструктивной, но оценочной плоскости. Там, где Флоренский щедро пользуется словами «высший, мнимый, действительный», Лотман тщательно избегает подобных выражений. Так мы видим, что вопрос о различиях сводится к тому, достаточно ли избегать оценочного пафоса, чтобы остаться в рядах позитивизма? Как показывает история, этого оказывается достаточно.