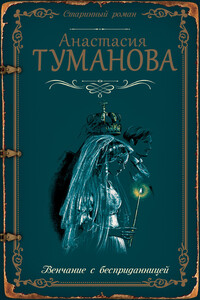Полынь — сухие слёзы | страница 88
Танька обижалась, надувала губы, убегала на посиделки одна.
В ночь на Сретенье холод стоял такой, что позеленевшее небо, казалось, вот-вот расколется от мороза и осыплет звёздами снежные холмы. На удивление забившихся по избам крестьян, в эту ночь парни особенно разошлись: почти до рассвета на сельской улице слышались смех, ругань, песни.
– И мороз их не берёт, наказанье с чертями! – дивились мужики, свешивая бороды с печей и сонно прислушиваясь к крикам и хохоту за околицей.
– Кромешники! – шипели бабы. – Праздник святой, а они, нехристи, лиходействуют! Тьфу, прости господи, грома небесного нет на них…
Наутро у колодца нашли замёрзшее тело Данилы Шадрина. Он лежал на снегу, скорчившись, в одной рваной рубахе, рядом стоял пустой полуштоф, а дырявый зипун висел высоко на дереве у него над головой. Кто-то пошутил над ним, пьяным, забросив зипун на ветку, и Данило в эту ледяную ночь так и не дошёл до дома.
Село взорвалось. Почти во всех домах родители пытали взрослых сыновей: «Ваше дело, каторжники?!.» Но испуганные парни клялись и божились на всех святых, что Данилы Шадрина они не трогали. Тут же как-то разом все вспомнили, что Ефим Силин всю зиму грозился отомстить «проклятой игоше». Парни, впрочем, на Ефима не показывали; напротив, утверждали, что этой ночью его никто не видел. Но Прокоп Силин, вернувшись домой с сельской сходки, пошёл прямо на конюшню.
– Ты Данилу уходил, сатана? – в упор спросил он пасынка. Лицо у него было такое, что двое цыганских мальчишек, разбиравших ремни упряжи, быстро переглянулись и выскочили из конюшни прочь. Ефим, который чистил скребницей смирного рыжего мерина, поднял голову, взглянул на отца сумрачно.
– Не я… – сказал словно нехотя. – Меня и в селе-то не было.
– А где был? Где был, сучий потрох, отвечай!
– Не скажу.
Каменея лицом, Прокоп запер двери конюшни и снял с гвоздя вожжи.
К вечеру того же дня Силин подъехал на санях к дому Шадриных, откуда уже вынесли в церковь покойного. Навстречу гостю вышли Агафья со старшей дочерью. Устинья, не поздоровавшись, сразу же ушла в сарай, стукнув промёрзшей дверью так, что звон пошёл на весь лес. Агафья же, с сухими воспалёнными глазами, с застывшим лицом, поклонилась:
– Здоров будь, Прокоп Матвеич.
– Прости, ради Христа, Агафья, – не ответив на приветствие и стягивая с головы мохнатый волчий малахай, хрипло сказал Прокоп. – Прости, недоглядел. Ефимка мой созоровал. Пошутить, дурни, думали, головы-то пустые, а вон чего вышло…