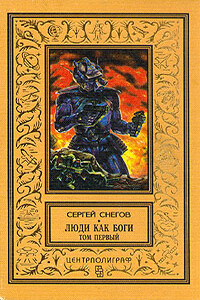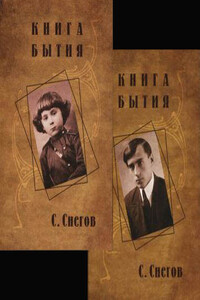Вариант Пинегина | страница 35
Пинегин задыхался, ему снова становилось плохо. Мысли обессиливали его. Пульс спотыкался, как потерявший силы путник, поднималась температура. Перепуганная медсестра бежала за врачом, врач сидел у постели, вглядывался в измученное лицо Пинегина. Он спрашивал у сестры, как ведет себя больной, не встает ли, не делает ли резких движений. Сестра отвечала: нет, больной лежит недвижно, глаза уставит в одну точку, сжимает губы — похоже, будто все о чем-то думает.
Врач ласково наклонялся над Пинегиным: — Иван Лукьяныч, опять температура скачет. И электрокардиограмма неважная. Что с вами? Возьмите себя в руки. Не надо ни о чем думать, все в комбинате идет хорошо — ради бога, не волнуйте себя!
Он уходил, и Пинегин забывал о его предписаниях. Он не мог взять себя в руки, не мог не думать, не волноваться. Зато у него был ответ на один из мучительнейших вопросов. Оп как бы карабкался на горный перевал, измучился, не стоял на ногах. Но с высоты этого высокого, как горный перевал, нового понимания открывался далекий вид на все стороны.
16
И прежде всего сам он показался себе другим, чем казался до того. Пинегин никогда не останавливался па полдороге. Раз начав дело, он доводил его до конца. Все это обрушилось на него неожиданно — споры и ссоры, сомнение в своем проекте, болезнь, правдивые горькие мысли, — некуда от них было деться, он их продумал до последней точки, ни от одной мысли не отмахнулся. И с таким же бесстрашием он взглянул на себя — новым, придирчивым, критическим взглядом. Пинегин любил себя, но своеобразной любовью. Он был равнодушен к человеку Пинегину как физическому существу, он не думал, какого цвета у него волосы, какой формы нос, что он час назад ел, какой костюм надевает. Пинегин был человек как человек, — ему было не до него! Самовлюбленность была ему глубоко чужда. Он ценил в себе то, что в нем ценили другие, всеобщее уважение к нему заставляло его уважать себя. Это была умная оценка собственной энергии, принципиальности, широты кругозора. Но оказалось, он стал иным, чем привык о себе думать. Пинегин сурово обратился к себе: «Вот когда подошли они, неизбежные пенсионные годы. И предлог имеется отличный — болезнь. Рапорта об отставке не смогут не принять».
Все же вывод этот был ему горек. Он понимал его логичность, даже неизбежность, но не мог смириться. Он забрался на последнюю высоту в молчаливых спорах с собою, воистину это был горный перевал — не хватало воздуха! Пинегин обессилел, от усталости он засыпал во время еды. Ему нужен был последний толчок — в ту или иную сторону, чтобы полететь назад, в дебри обветшавших привычек, или шагнуть вперед, отбросив старье, как хлам. У него не было собственных сил на этот толчок, он покачивался, как па ветру, от каждой новой мысли, не мог ни на что решиться. Мысли были по-прежнему логичны и беспощадны, но это уже были одни мысли, к действиям они не приводили, острия их стирались.