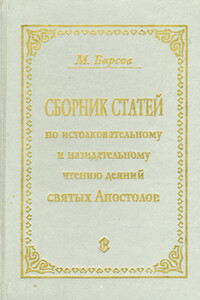Феномен иконы | страница 49
До сих пор, как мы видели, рассуждения Феодора практически протекали в русле неоплатонизма. В последней цитате он даже использует плотиновский термин είδος для обозначения «видимого образа», однако при переходе к произведениям искусства начинает расходиться с платониками. Конкретное живописное изображение приобретает у него существенно более высокую значимость, чем во всей неоплатонической традиции. По его мнению, в изображении предвечный визуальный образ (или «внутренний эйдос») выявляется для зрителей яснее, чем в самом первообразе. Так, видимый образ Христа находился в Нем самом и до того, как был запечатлен на веществе, примерно так же, «как и тень всегда сопутствует телу, даже если она и не получила формы от солнечного луча» (III4,3). Изображение же выявляет изначальный «видимый образ» изображаемого (для которого русское богословие нашло прекрасный термин —лик), делает егоявньш для всех. «Как тень, — пишетФеодор, — от действия солнечного луча становится ясно видимою, так и образ Христа проявляется для всех тогда, когда он предстает запечатленным на [различных] веществах» (III4,12).
Здесь существенно углубляется выдвинутая на VII Соборе мысль о документально–фотографической функции изображения. И у Феодора икона мыслится как механический отпечаток, но не какого–то конкретного сиюминутного состояния внешнего вида оригинала, а его идеального «видимого образа», его неизменного эйдоса, его лика. Икона — не слабая тень оригинала, как живописное изображение у платоников, а особая форма выражения оригинала, специально ориентированная на выявление его визуальной «идеи», его эйдоса. Именно поэтому изображение и приобретает столь высокую значимость в византийской религиозной культуре вообще, и у Феодора Студита, в частности, особенно при доказательстве догмата божественного Воплощения.
Логика его рассуждений такова. Если Христос истинно вочеловечился, то он вместе с плотью приобрел и «видимый образ», который может и должен быть изображен на иконе. Если же Христос не имеет такого изображения, то, следовательно, не имеет и «видимого образа», а значит, он и не был истинным человеком. Поэтому–то для Феодора наличие изображений и является доказательством истинности божественной «икономии» (домостроительства) (XIII4,8). «Одно — печать и другое — отпечатанное изображение; однако и до отпечатывания отпечаток [находился] на печати. Но печать была бы недействительной, если бы не имела отпечатка на каком–либо веществе. Соответственно, и Христа пришлось бы признать недеятельным и недействительным, если бы он не был видим в изображении искусства» (III4,9). Поэтому–то, по логике Феодора, изображение Христа и является важнейшим свидетельством истинности его вочеловечения. «А если бы его отпечаток не переходил на вещество, [этим] отрицалось бы, что он имеет человеческий облик» (III4,10), но это противоречит христианской вере, следовательно, неприемлемо.