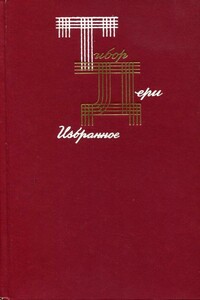Воображаемый репортаж об одном американском поп-фестивале | страница 30
— Знаю, — улыбаясь, сказал Джошуа.
— И все равно согласился чикнуть его, хи-хи-хи, — сказал Франтишек. — А знаешь, что Аврааму было уже девяносто девять, а жене его, Сарре, когда она зачала сына, Исаака, во смехота! — девяносто, дабы умножилось семя его и много народов произошло от него, вот так. И все равно в вонючем своем слюнявом послушании согласился единородного сына пришить — и речугу еще толкнул предвыборную про повиновение, дабы сильным легче было потом слабых давить. Знаешь, отец, чем мы все здесь страдаем, в этом царстве спелого винограда, и дынь, и цветущих пионов, гм, гм… Авраамовым комплексом, вот чем; уж это точно.
— Ну, хватит, сынок, наболтал ты порядком, — сказал, улыбаясь, Джошуа. — Гость устал и хочет отдохнуть, верно, брат? Отдохнет, и мы все встанем и на помощь ему придем, пособим отыскать, кого он жаждет найти с таким чистосердечным пылом.
— Отыскать? — переспросил Франтишек. — Загнать, а не отыскать, хи-хи-хи. — И тут впервые после моего прихода, — сказал Йожеф, — Джошуа помрачнел. Неодобрительно покачал он своей громадной головой, и улыбка спугнутой птичкой упорхнула из его дремучей бороды.
— Глуп ты невероятно, — сказал он, — просто не понимаю, как только терплю тебя. Неправ ты. И с Авраамом неправ. Не в том, конечно, дело, что неправ, это еще не роняет тебя в глазах людей порядочных…
— А в чем? — спросил Франтишек, с интересом наклоняясь к собеседнику и наставив на него указательный палец. — Говори, в чем, лошажья твоя голова.
— Беда в том, — опять улыбнувшись добродушно, сказал Джошуа, — что ежели я лошажья голова, то ты вша лошадиная. Не любишь ты людей.
— Вот те на, — сказал Франтишек. — Это из чего же ты вывел, умник?
— В палатке, — сказал Йожеф, — было тепло и душно от испарений множества немытых полуголых тел, и карбидная лампа чадила, а в глубине, правда, не на виду, в полумраке, смачно, взасос целовались, но остальные восемь — десять парней и девушек, кто слушая, кто нет, лежали в общем тихо, только еле внятное бормотанье, подобное шелесту листвы, долетало в паузах, которыми перемежался диалог — вернее, нескончаемый монолог Франтишека. И, попадая в эту духоту, человек, как ни странно, чувствовал себя вполне хорошо или, скажем, сносно, ибо здесь все-таки не смердело, а пахло мирно: кротостью, терпимостью, снисходительностью, так что даже марихуанный дымок против обыкновения не оскорблял ни достоинства, ни обоняния.
— И с Авраамом неправ ты, сынок, — по-прежнему улыбаясь, сказал Джошуа. — А что, если люди вообще любят повиновение, зачем же лишать их этой радости? А вдруг именно это и помогает сохранять равновесие, а, милый мой, глупенький сынок?