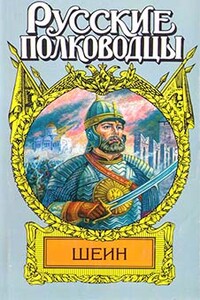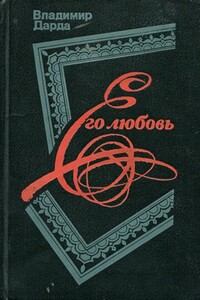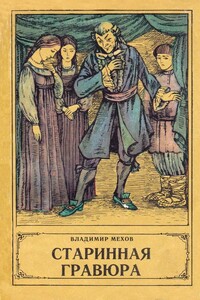Зибенкэз | страница 46
В этот рождественский вечер мне предстояло изложить свои «Сорок пять дней собачьей почты» приблизительно за такое же число минут: столь длинное произведение предполагало достаточно долгий сон отца.
Мне бы хотелось, чтобы гг. редакторы рецензий и рецензентов, вменяющие мне здесь многое в вину, хоть один раз посидели на канапе рядом с моей тезкой Иоганной Паулиной: они рассказали бы ей большинство моих жизнеописаний и половину синей библиотеки в таких же удачных и связных выдержках, как они это делают, выступая со своими статьями перед совершенно иными лицами; они утопали бы в блаженстве от правдивости слов Паулины, от наивного выражения ее лица, от непринужденности и шаловливости ее поступков и, взяв ее за руку, сказали бы: «Пусть поэт всегда создает для нас только такие трогательные творения, как то, что рядом с нами, и тогда мы признаем его за достойнейшего». — Да, если бы редакторы зашли еще дальше в пересказывании книг и растрогали бы самих себя и Паулину еще больше, чем я мог ожидать от столь строгих судей-критиков, и если бы они тогда увидели или, вернее, почти перестали различать взором, затуманенным слезами, ее кроткое заплаканное лицо (ибо девичья душа, подобно золоту, тем мягче, чем она чище) и в небесном блаженстве, конечно, почти забылись бы сами и забыли о храпящем отце. Клянусь небом! Я сам теперь донельзя забылся, так что предисловие рискует затянуться до завтра. Придется уж мне, очевидно, в дальнейшем быть хладнокровнее.
Мне кажется вероятным, что в рождественский вечер писание писем весьма утомило негоцианта и судебного сеньера, так что для быстрого его усыпления требовался лишь человек, способный держать долгую и цветистую речь. Таким человеком несомненно был я. Но вначале, за ужином, я, естественно, касался лишь вопросов, доступных пониманию хозяина. Пока он еще держал вилку или ложку, и пока еще не была прочитана молитва, произносимая после трапезы, он был еще неприспособлен для длительного сна; поэтому я развлекал его немаловажными веселыми рассказами — застреленным и выпотрошенным пассажиром (вышеупомянутой дикой козой), — попутно и несколькими банкротствами мелочных торговцев, — своими мыслями о войне с Францией, — утверждением, что берлинская Фридрихштрассе имеет полмили в длину и что в Берлине существует большая свобода печати и торговли; я отметил также, что, путешествуя по различным немецким землям, я мало видел таких мест, где нищие дети не отменяли бы (в качестве высшей или ревизующей инстанции) приговоры газетных корреспондентов. Дело в том, что газетные писаки своими чернилами, словно живой водой, воскрешают всех павших на поле брани и могут ими снова воспользоваться для ближайшей баталии, тогда как солдатские дети, напротив, охотно умерщвляют своих родителей, чтобы просить милостыню, ссылаясь на списки убитых, и готовы за пфенниг застрелить своего отца, которого газетный чудотворец за грош снова воскресит, так что обе стороны, путем встречного вранья, становятся хорошим взаимным противоядием. Вот почему газетный корреспондент, подобно знатоку орфографии, не может связывать себя Клопштоковским правилом «писать лишь то, что слышишь».