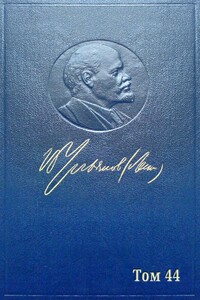Училище правоведения сорок лет тому назад | страница 19
Другая история у нас была с чаем. За него тоже должен был платить каждый, кто хотел его пить утром. Заплати в месяц столько-то, и тебя утром, тотчас после молитвы, ведут маршем и парами, с другими такими же «исключениями», как и ты сам, вниз, в столовую, а там уже стоят глиняные белые кружки с чаем, конечно безвкусным и плохим, а все чаем. А другие все остальные должны взять свою белую круглую булку и жевать ее в сухомятку. Так ничего для питья этим другим и пс было до самого обеда, т. е. до 1 часа дня. Правда, эти белые круглые булки (от знаменитого булочника Вебера у Семионовского моста, помещавшегося там, где нынче существует булочник Иванов), были лучшее кушанье из всего, что мы получали в правоведении, но все-таки это ни на минуту не заглушало едкого чувства досады и зависти в каждом из непривилегированных. Кто из десятков мальчиков, остававшихся с одною булкою в руках, был виноват, что его отец или дядя не может платить столько-то рублей за дрянной этот чай, а между тем его пить хочется и нужно, а между тем укол самолюбию повторяется неизбежно, неизменно, всякое утро. С этого укола начинался для многих их день утром. Извольте потом, с этим гадким уколом внутри, итти в класс и уткнуть нос в тетрадь и книгу! Это деление на пьющих и непьющих чай было так некрасиво, так безобразно, что когда принц Ольденбургский в 1837 году женился и, спустя несколько месяцев, принцесса Терезия приехала однажды утром в училище и увидела в одной зале толпу мальчиков, пьющих весело и шумливо свои кружки, а в другой — еще большую толпу мальчиков, сиротливо гложущих свои сухие булки, и ей рассказали, на ее вопрос, что это такое значит, она сказала: «Ach, arme Kinder!», и велела из своей собственной шкатулки давать сколько нужно денег, чтоб все до единого могли утром пить плохой чай в белых кружках. Она сделала доброе, прекрасное дело, еще более для умов и характеров, чем для желудков. Впоследствии, по примеру которых-то немецких или английских училищ, нас всех стали поить по утрам ржаным кофеем с молоком. Мы его не очень-то любили, однако он был в самом деле здоров и питателен.
Совершенно в другом роде не нравились нам иные еще вещи. Например, те глупые фразы, которые мы должны были иногда говорите, а иногда громко выкрикивать. Так, например, когда мы являлись, в воскресенье, в 9 часов вечера, назад в училище, из дому, каждый из нас должен был подойти к дежурному «воспитателю», стать в служебную позу и, подавая «воспитателю» свой печатный билет с отметкой родителей о времени прихода домой и ухода из дому, проговорить натянуто официальным голосом: «Честь имею явиться! Из отпуска прибыл благополучно!» На что нужно было «воспитателю» 200 раз сряду прослушать этот невинный вздор, па что нужно было и каждому из нас проговаривать его серьезным током, как что-то будто бы и в самом деле нужное и серьезное! Точно так же, всякое утро, между 8 1/2 и 9 часов, около времени начала класса, директор приходил из своей квартиры к нам наверх и, входя в каждый класс, громко и решительно произносил: «Здравствуйте, господа!» Наша обязанность была: соскочить со своих табуретов на высоких ножках, вытянуться в струнку и громко и решительно прокричать: «Здравия желаем, ваше превосходительство-о-о!» Что за «здравие», что за «желание» — мы над всем этим порядком смеялись, как и над «благополучным прибытием из отпуска», однако переменить ничего не могли. Впрочем, впоследствии, когда мы подросли и перешли в старшие классы, мы иной раз, при событиях крайней политической для нас важности, вздумали употребить в свою пользу это «здравия желаем» и своим глубоким молчанием, в ответ на громкий утренний возглас директора, — наказывать его, когда считали его виноватым перед нами. Но это было уже нечто вроде заговора и бунта.