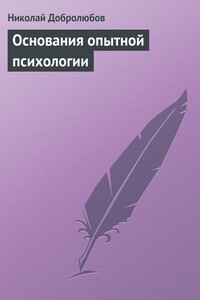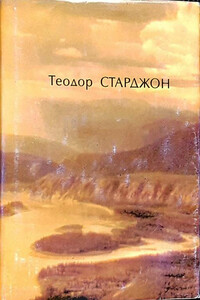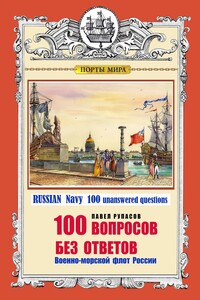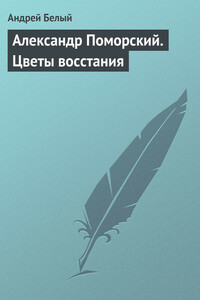Творчество и критика | страница 69
Во избежание этого можно только посоветовать читателям крайне осторожно относиться и к утверждениям, и к цитатам Д. Мережковского. Если он утверждает, что еще Достоевский свидетельствовал „об отпадении Л. Толстого от русского всеобщего и великого дела, то-есть от исторического народного христианства“-то не торопитесь верить объяснительному „то-есть“ Д. Мережковского: при проверке окажется, что Достоевский говорил здесь вовсе не об историческом народном христианстве, а о турецкой войне и освобождении славян. Если вы услышите, что, приводя слова Ивана Карамазова: „не хочу я, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына“, Д. Мережковский комментирует: „здесь, конечно (!) разумеет он Великую Матерь, упование рода человеческого“-не верьте: ибо Иван Карамазов решительно ничего подобного не имеет в виду. Если вы прочтете у Д. Мережковского, что „Гоголь под церковью восточною, православною разумеет не прошлую или настоящую, историческую, а грядущую, сверх-историческую, мистическую церковь христианства воистину вселенского“, — то будьте уверены, что Гоголь никогда ничего подобного не „разумел“ и далек от чести быть Иоанном Предтечей Дмитрия Мережковского: здесь Д. Мережковский просто навязывает Гоголю свои взгляды. Если, наконец, говоря о знаменитом письме Белинского к Гоголю, Д. Мережковский заявляет, что- залаял собакою, завыл шакалом, зажмурил глаза, и весь отдался бешенству, так выразился сам Белинский о своем тогдашнем состоянии, — то опять-таки не торопитесь верить, а поищите, где это мог сказать сам Белинский… Десятки и сотни подобных примеров-дело будущего критика писаний Д. Мережковского; я ограничиваюсь лишь подчеркиванием наиболее характерного.
Возвращаясь к «чрезмерностям» в критических суждениях Д. Мережковского, не буду подробно на них останавливаться: приведенные примеры говорят сами за себя. Отмечу только, для будущего историка литературы, невероятные суждения Д. Мережковского о Григоровиче («один из совершеннейших классиков русской прозы», произведения которого полны «дивной гармонии и законченности, неподражаемого изящества формы»…); о Чехове («избыток равнодушного здоровья»…), о Ясинском («таинственная прелесть обаятельного мистицизма»…), о Шеллере-Михайлове (роман «Эсфирь»- «великолепная экзотическая картина»…); об Апухтине («один из самых нежных, изящных и благородных преемников Полонского и Тютчева»); о гр. Голенищеве-Кутузове (его поэма «Рассвет»-«чудная поэма, совершенно не понятая и не оцененная критиками»-см. V, стр. 68, 82, 85, и 94). С тех пор Д. Мережковский, вероятно, во многом изменил свои мнения; но мог-же он доходить до таких геркулесовых столпов бесвкусия и критической слепоты! Но и в более позднее время-какое частое непонимание вершин европейской и русской литературы! В статье об Ибсене (см. X) «Призраки» рассматриваются, как «лучший ответ строгим защитникам семейного начала, которые осуждают Нору за то, что она покинула детей»… Вот как можно упростить те мучительно-острые вопросы о безвинном страдании, которые ставит в этой потрясающей драме Ибсен! Из всего Кальдерона Д. Мережковский разбирает, в скучнейшем пересказе, одну из самых слабых драм Кальдерона «Поклонение Кресту»-только оттого, что в ней любезное ему слово «крест» склоняется во всех падежах: такова постоянная власть слова над Д. Мережковским. В прекрасной статье о Пушкине он все-же позволяет себе утверждать, совершенно ошибочно, будто «гармония» Пушкина была «естественным и непроизвольным даром природы», будто Пушкин «не сознал и не выстрадал своей гармонии»… До чего это неверно! Белинского наш автор снисходительно и иронически именует «может быть недостаточно проницательным, но в высшей степени благонамеренным человеком»… Защищать Белинского от Д. Мережковского я, конечно, не буду; но не могу не указать быть может слишком проницательному Д. Мережковскому, как раз на одно проникновеннейшее определение Белинским «гармонии» Пушкина. Белинский обращает внимание «на эту бесконечную грусть, как основной элемент поэзии Пушкина, на этот гармонический вопль мирового страдания, поднятого на себя русским Атлантом; на эти переливы и быстрые переходы ощущений, на эти беспрестанные и торжественные выходы из грусти в широкие размёты души могучей, здоровой и нормальной, а от них снова переходы в неумолкающее гармоническое рыдание мирового страдания»… С наслаждением делаю эту выписку, преклоняясь перед гениальной проницательностью великого критика (с тех пор о Пушкине никто не сказал ничего лучше) и отдыхая от «антитетических» и гиперболических построений Д. Мережковского. «Миросозерцание Пушкина- заключает Белинский-трепещет в каждом стихе, в каждом стихе слышно рыдание мирового страдания… да не всякому все это дается и трудно открывается, потому что в мир пушкинской поэзии нельзя входить с готовыми идейками»…