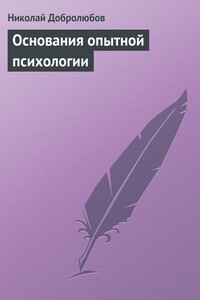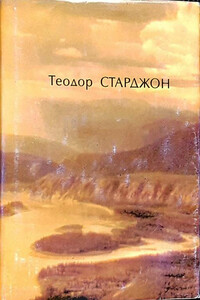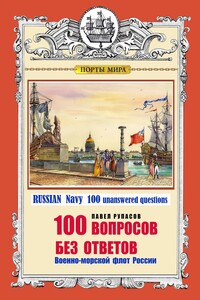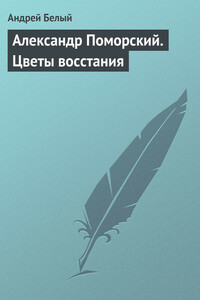Творчество и критика | страница 68
Начинается с первых же страниц: «все будущее не только русской; но и всемирной культуры» зависит от вопроса-…победил ли Нитцше Богочеловека, а Достоевский-Человекобога (конечно, и тут словесная антитеза). «Если в наше время люди боятся смерти с такой постыдной судорогой, какой еще никогда не бывало»-то этим они «в значительной мере обязаны Л. Толстому» (интересное субъективное признание о страхе смерти). Когда в «Идиоте» Достоевского Ипполит видит сон, что собака его, Норма, бросается на какую-то кошмарную ядовитую гадину, а та жалит собаку в язык-то не все бред в этом бреду: «здесь решается какая-то наша собственная, реальная, хотя и премирная судьба…» Когда чорт говорит Ивану Карамазову: «все, что у вас есть, есть и у нас»-то подобные же «нуменальные мысли должны были смущать… Канта, когда обдумывал он свою трансцендентальную эстетику» (?! — разве же это не прелестно?). Отлучение Л. Толстого от церкви Синодом в 1901 году есть глубоко положительное явление и «имеет огромное и едва ли даже сейчас вполне оценимое значение: это ведь в сущности первое, уже не созерцательное, а действенное и сколь глубокое, историческое соприкосновение русской церкви с русскою литературою пред лицом всего народа, всего мира»… Наполеон всей своей жизнью потряс «глубочайшие основы всей христианской и до-христианской нравственности» (почему Наполеон, а не Лжедмитрий, не Тимур и не кто-нибудь третий или сотый?). «Анархизм-есть ужасное русское слово, русский ответ на вопрос западно-европейской культуры. Этого мы не заимствовали у Европы, это мы дали Европе. Россия впервые договорила здесь то, чего не смела сказать Европа» (какой вздор!). Написанное Л. Толстым о православной церкви-«самые позорные страницы русской литературы»; когда дописывалось «Воскресение»-для Л. Толстого «окончательно все рухнуло, так что уже и поднять нельзя». Л. Толстой и Нитцше боялись друг друга: «другим и себе казались они дерзновенными; но для этой беседы (между собою) не хватило у них дерзновения: каждый из них боялся другого, как двойника своего…» Нитцше притворялся, что не знает Христа, и хотя он и скрыл эту тайну свою от себя самого, то все же-не от Д. Мережковского: он был «невольным учителем» второго пришествия Христа на землю…
Я перелистывал книгу Д. Мережковского о «Л. Толстом и Достоевском» и брал буквально первые попадавшиеся на глаза примеры, брал не исключения, а типичные фразы. Если когда-нибудь это произведение Д. Мережковского будет подвергнуто детальной критике, то окажется, что «черезмерность»-его общее место, что подобных произвольных утверждений в ней столько же, сколько страниц. Еще один пример: Д. Мережковский утверждает, слепо повторяя мнение Тургенева, что в «Войне и Мире» слаба историческая сторона, что (это уже продолжает Д. Мережковский) «поразительна скудость не только исторической, но и вообще культурно-бытовой окраски в его произведениях», что на всем протяжении «Войны и Мира» встречается только одно упоминание о домашней обстановке русского вельможи александровского времени. Это достаточно определенно сказано — повидимому, человек знает, что говорит. Однако такое категорическое и мало вероятное утверждение оказывается сущим вздором при ближайшей проверке: доказательства этого читатель может найти в статье «Историческая сторона романа „Война и Мир“ (А. Бороздина. — см. „Минувшие годы“ 1908 г., № 10). Но если на каждое голословное утверждение Д. Мережковского писать опровержительную статью, то ведь, пожалуй, может произойти целый литературный потоп! Тогда, пожалуй, и свершится предсказание Д. Мережковского о „конце русской литературы“…