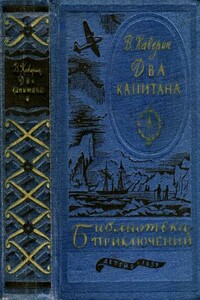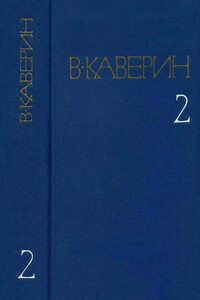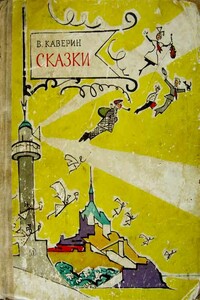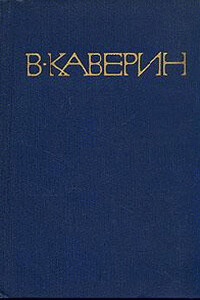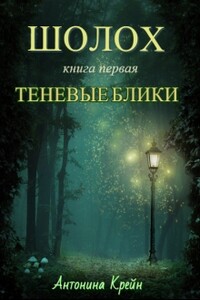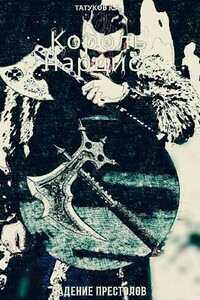Письменный стол | страница 3
Определить жанр этого сочинения трудно. Но вот один пример. и. Эйдельман и В. Порудоминскпй издали «Болдинскую осень» — книгу, в которой письма к друзьям и к невесте перемежаются «Маленькими трагедиями», критические статьи — главами из «Евгения Онегина», поэмы — сказками, стихи — замечаниями на собственные произведения. Я уже не говорю о том, в какой таинственной связи находятся одно произведение с другим, написанным вслед за другим, по бесконечно далёкое от него во всех отношениях. «Моцарт и Сальери» написан 26 октября, «История села Горюхина» — 1 ноября, а 2–4 ноября уже закончен «Каменный гость». Воображение автора шагает через пропасти, хронология приобретает почти мистический, самой судьбой предопределённый характер. Но меня «Болдинская осень» поразила и другим — составители и комментаторы книги как бы сдёрнули завесу, и за ней открылось обыденное, ежедневные заботы художника, в которых опытный взгляд историка находит отражение обыденной жизни. Вот эта обыденная жизнь, мало отличающаяся от жизни любого представителя «интеллигентного» труда, составляет содержание этой книги.
Стрелки часов, бесшумно (или почти бесшумно) обегающие циферблат, в равной мере отсчитывают полет времени и для тех, кто пишет книги, и для тех, кто строит дома и пролагает дороги. На трассе полёта они встречаются, обмениваясь, как это делают пилоты, покачиванием крыльев. Эти встречи, случайные и неслучайные, перемежающиеся с интервью, письмами и моими комментариями к ним, относятся к разному времени, но преимущественно к семидесятым — восьмидесятым годам.
Я не назвал эту книгу «Орлиный залёт» — пожалуй, читатель решил бы, что я считаю её лучшей из своих книг. Это не так. Она мне кажется перекрёстком, на котором соединились мои размышления о литературе с размышлениями моих старых и новых друзей.
Можно было бы привести и другие соображения, объясняющие, почему я назвал эту книгу «Письменный стол». Разумеется, я знал» что Марина Цветаева в блистательно точных, скупых строках заставила нас с волнением вглядеться в то, о чём я пытался рассказать в своём затянувшемся предисловии.
СЛУЧАЙНЫЕ И НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ
ТИПЫ ОТНОШЕНИЙ
Трудно представить себе, что человек, любящий и знающий русскую литературу, увидев в поле красный татарник, не вспомнит толстовского «Хаджи–Мурата». Такова сила совершенного произведения искусства. Оно сопровождает нас всю жизнь. Оно, не спросясь, вмешивается в наши дела и делает нас благороднее, веселее, честнее. В фильме «Мир Улановой» участники войны вспоминают о том, что в тяжёлых боях Уланова не оставляла их. Она вдохновляла их в те минуты, когда «до смерти четыре шага». Создатели фильма сделали очень многое: рассказана биография Улановой, показана она в лучших ролях. Но, как ни странпо, мне кажется, что между всем, что нам показали, и самой Улановой — пропасть. О ней рассказать так же трудно, как о Девятой симфонии Бетховена. Слезы приходят раньше разумного, трезвого толкования. Сила великой артистки как раз и состоит в том, что она каждый раз напоминает нам своё, тайное, невысказанное. В чём эта тайна? Кто знает… Это — тайна, бережно хранимая Улановой и отданная нам из рук в руки. Иные пз её друзей упоминали о её сдержанности, немногословности.