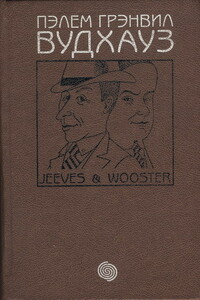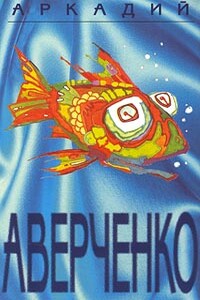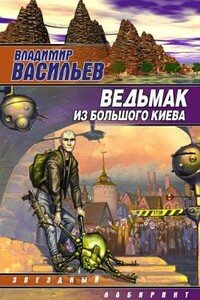Левша на обе ноги | страница 101
Роковой миг настал, когда слова у Джеймса Бойда иссякли, и он молча мрачно откинулся на спинку кресла. Элизабет, обиженная и насупленная, сидела напротив, баюкая на коленях Джозефа. В сумерках неспешно утекало время.
Как это случилось, Элизабет толком не поняла. Только что — мир и тишина, в следующую секунду — хаос. Джозеф летит в дальний угол, молотя когтями по воздуху и отчаянно ругаясь, а сама Элизабет стиснута мертвой хваткой так, что не вздохнуть.
Можно примерно представить себе ход мыслей Джеймса. Он в отчаянии, дела в театре идут из рук вон плохо, жизнь потеряла всякий вкус. И тут взгляд Джеймса цепляется за профиль Элизабет. Профиль, надо сказать, красивый, а главное — успокаивающий. Джеймса Бойда захлестывает мучительная нежность. Вот она сидит, его единственный друг в чужом равнодушном городе. Вы скажете, что нет никакой необходимости бросаться на единственного друга с риском задушить — и будете правы, но Джеймс Бойд был уже недоступен доводам здравого смысла. Долгие репетиции превратили его нервы в лохмотья. Можно считать, что он был невменяем и не отвечал за свои действия.
Это о Джеймсе. Элизабет, само собой, не могла посмотреть на дело так широко и непредвзято. Она знала только, что Джеймс поступил с ней коварно, злоупотребил ее доверием. В первый миг она от изумления даже забыла возмутиться. Она вообще не ощутила ничего, кроме чисто физической нехватки воздуха. Затем, раскрасневшись и разозлившись, как никогда в жизни, она принялась отбиваться и наконец вырвалась из его рук. Теперь, когда к прежней обиде прибавилось еще и это новое свинство, она люто возненавидела Джеймса. Ее злость подпитывала унизительная мысль о том, что она сама во всем виновата — приходила к нему домой, вот и напросилась.
Элизабет слепо рванулась к двери. Что-то поднималось изнутри, клубясь и застилая взор, мешая вымолвить хоть слово. Элизабет сознавала только, что хочет остаться одна, закрыться у себя в квартире. Джеймс что-то говорил, но слова не долетали до нее. Элизабет нашарила дверь. Почувствовала руку на своем локте и, не глядя, стряхнула. А потом она оказалась у себя дома, наконец-то в одиночестве. Теперь можно было на досуге созерцать руины маленького храма дружбы, который она так бережно возводила и в котором была так счастлива.
Ясно осознавался один основополагающий факт — что она Джеймса никогда не простит. А стало быть, лишившись разом двух друзей, которые только и были у нее в Нью-Йорке, она может без помех заняться единственным оставшимся ей делом: чувствовать себя одинокой и глубоко несчастной.