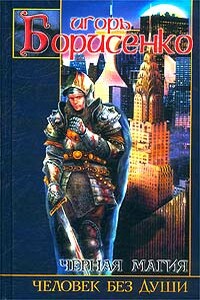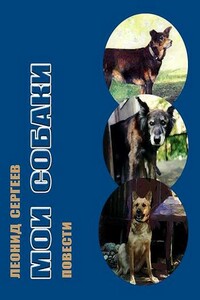Год черной луны | страница 52
— Если верить им с бабкой, он бы давно погиб от порчи.
— И была бы я веселая вдова.
— Веселая? Ты? Не представляю.
— Зато я представляю, как тебе надоела.
— Вряд ли! Гораздо сильнее!
Вот в таком духе мы и беседовали. Нет, до известной степени ее удавалось растормошить: мы куда-то ходили, гуляли, иногда вместе ужинали, смотрели фильмы. Татка оживлялась и становилась самой собой, ироничной, блескучей, но — временно, очень временно, буквально на считанные минуты.
И еще мне не нравилось, что вокруг нее слишком много Протопопова. Поистине, свято место пусто не бывает, почему-то при Татке всегда образуется кто-то вроде денщика, заслонка от окружающего. Иной раз я попросту не могла к ней пробиться. Звоню, что хочу зайти. Она говорит — давай, только у меня Протопопов. Не помешает? Нет, отвечаю, конечно, нет, — что еще скажешь? На самом же деле она при нем еще хуже, чем сама по себе, бессмысленная и вареная; ей от него ни толку, ни помощи. Так, присутствие. Хотя вряд ли Татка отдает себе в этом отчет. Привыкла быть не одна, вот и спасается первым подвернувшимся под руку объектом. А со стороны видно, что он из нее потихоньку соки выпивает, вампирит, так сказать, по мере возможности.
К счастью, в последнее время от Протопопова случился отпуск: после поездки к бабуле наш богатенький Буратино слег с нервным срывом. Вот ведь никогда бы не подумала! Татка мне с хихиканьем рассказала, как его запугали болезнями и он тут же поверил, состав взял, всю дорогу до Москвы молчал, потом неделю по врачам бегал, а когда те ничего особо криминального в его священном организме не обнаружили, свалился чуть ли не в нервной горячке. А началось с того, что он ночью позвонил Сашке:
— Мне плохо!
— В чем дело, что случилось?
Протопопов несет черт-те чего: ой, боюсь!
Начал принимать состав, и сразу — тахикардия! Ощущение, что умираю! Признавайся, что там намешано?
Саня на него прикрикнула: дескать, будь мужиком, прекрати истерику, не умрешь, выживешь, куда денешься. Протопопов еще чуть-чуть повякал и отстал, а утром позвонил Татке. Нажаловался на Саню и заодно на жену — та тоже обвинила его в бабьем поведении; признался, что ночью рыдал от тоски, и вообще ему невыносимо плохо. А поскольку Татка мужчиной быть не требовала, наоборот, выслушала и успокоила, то несостоявшийся покойник окончательно разнюнился и под шумок признался в нежных чувствах. Ты одна меня понимаешь, только тебя одну всю жизнь и люблю. Татка, ясное дело, все знала, но вообще-то тема любви была у них под запретом, что, по ее словам, только и спасало отношения. «Мне нечем ему ответить, — всегда говорила она. — А пока мысль не облечена в слово, то и самого явления как бы нет, верно? Можно оставаться друзьями».