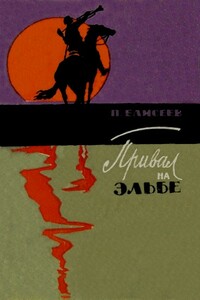Неприкосновенный запас | страница 54
— Отстань!
— Не отстану!
— Тогда я повернусь и уйду!
— Как ты можешь уйти от меня, когда я и ты — одно и то же…
— Нет, Кот, — говорю я себе, — не одно и то же. Когда-то мы были одним и тем же, а теперь разные. Как сиамские близнецы — не можем разойтись в стороны. У нас одно имя. Одно сердце. Одни брюки на двоих, одна рубашка. Не могу понять, откуда ты взялся. Зачем ты мне нужен? Может быть, ты вирус? И я болею тобой.
— Ты болеешь самим собой, Кот. Это очень тяжелая болезнь, иногда неизлечимая.
— Что это еще за болезнь? — сержусь я на себя.
— Ты повзрослел и недоволен собой. А поскольку до этого ты был очень доволен, любил себя, холил и лелеял, тебе кажется, что это не ты, а кто-то другой недоволен. И произошло раздвоение личности. Ты не можешь уйти от меня. Ты не можешь ударить меня — больно будет тебе. Ты вынужден терпеть. А Коперник здесь ни при чем.
Я терпел. Я учился смотреть на себя со стороны. И вдруг увидел себя маленьким, ничтожным человечком, который при этом очень любит себя, маленького и ничтожного. И невозможно объяснить, за что он его, себя, любит. В его груди бьется маленькое, суетливое сердечко, и его руки тянутся ко всему, что может доставить радость. Он любит все яркое, все новое, все блестящее, и этим он… то есть я, похож на дикаря. Он — то есть я — маленький, и весь его мирок маленький, познанный, жеваный-пережеваный.
Может быть, я смотрю на себя в кривое зеркало или в перевернутый бинокль? Может быть, на самом деле все не так? Но если этот маленький человечек есть, я должен его победить.
Теперь я понимаю, в какие минуты художники брались за кисть и рисовали автопортреты. Вероятно, они рисовали не себя, а своих двойников, которые возникли в них самих и отравляли им жизнь.
Потому-то на автопортретах все художники выглядят несчастными и одинокими. Их лица унылы, а глаза сосредоточенно смотрят в одну точку, словно в ней, в этой точке, причины всех их невзгод и неудач. Только великий Рембрандт изобразил себя счастливым, недаром он не пожалел холста и красок и вместе с собой за компанию нарисовал свою любовь Саскию. Саския сидит у него на коленях. Она повернулась лицом к зрителям, словно собирается сниматься. Одной рукой обняла счастливого Рембрандта за шею, другой подняла кубок с вином.
Я думаю о Рембрандте и Саскии, и мне мучительно хочется сказать Наиле:
— Сядь ко мне на колени.
— Ты с ума сошел! — воскликнет она. Кровь ударит в лицо, черные глаза сверкнут. Наиля резко отвернется, но через несколько мгновений посмотрит на меня из-за плеча и спросит: — А зачем?