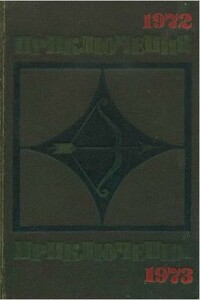В тот главный миг | страница 32
— Попробовать попробую, а как выйдет — не знаю.
— И я попробую Лепехину сказать, чтоб целым ты остался... Да не грозись ты!..
— Я не грожусь. Вступаешь в дело, берем в долю, слягавишь — перо в бок. Закон...
Опять помолчали. Потом подрагивающий голос Пашки сказал:
— Да ладно. Сделаю. Но и ты гляди.
— Как сказал. Все будет. Марафет и прочее. Бери ее, чтоб с орешками. Так-то на что она нам?
Они еще пошептались, потом от сосны отделилась тень и пошла К костру. Через минуту Пашка уже сидел там среди других, бессмысленно глядя в огонь. Хорь исчез.
«Темные мужики,— подумал Федор,— опасные... Может, пойти Порхову сказать, что они Пашку на какое-то дело подбивают. Но на какое? Погожу, пока яснее станет...»
КОРНИЛЫЧ
Завхоз вошел в провиантскую палатку и присел у входа на ящик с динамитными патронами. Отсюда был хорошо слышен разговор. «Где четверо-то эти? — подумал Корнилыч.— Чего опять замышляют, шаромыги?»
Кто-то прошуршал у входа, откинулся полог, и перед завхозом присел на корточки Санька.
— Поговорить я, Корнилыч, насчет рации. Когда лиственница рухнула, ее ведь подрубил кто-то.
— Как так? Ты, паря, однако, в своем уме?
— Вот ей богу! Честное комсомольское. Я потом все вспоминал, вспоминал... Вроде слышал я, как рубят рядом-то. Лиственница вершиной повалилась. Там ветки... Они короб раздавить не могли. Дерево его просто прижало. Но лампы не должны были повредиться. Это поработал кто-то...
— Сам видал, али так? Додумал потом?
— Месяц об этом думаю, Корнилыч. Хоть я сразу побежал народ созывать, но помню, что не могла лиственница корпус раздавить, ветки же ствол держали... И еще, слышал я вроде шаги в тот раз... Вокруг палатки...
— Как в кино,— улыбнулся Корнилыч.
Санька махнул рукой и прянул в темноту. После разговора с радистом на сердце у Корнилыча стало еще тяжелее. В партии творилось что-то непонятное, и он за это в ответе. Поговорить с Порховым завхоз не решался. Была у него перед начальником вина, а не такой Порхов человек, чтобы забыть о ней, когда узнает.
Ничего не боялся Корнилыч в этой жизни, все мог перенести, одного не терпел — унижения. Был он человеком с самолюбием, но мало кто об этом догадывался. В армии лейтенант приставил его на первых порах к кухне. Таежник Корнилыч по следу умел читать на снегу и на земле, а его сделали кашеваром, но он старался кормить солдат получше. А когда начались бои, стал одним из лучших разведчиков. Но все же и тогда его, бывало, унижали. Смеялись над его ростом или манерой говорить. А он улыбался. Улыбка была его щитом и его страховкой, он улыбался, когда его хвалили и когда ругали. Он улыбался, когда был прав и когда виноват. Со временем его перестали трогать, потому что этот всегда спокойный, улыбчивый человек, казалось, был непробиваем.