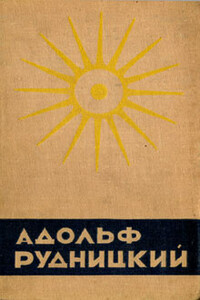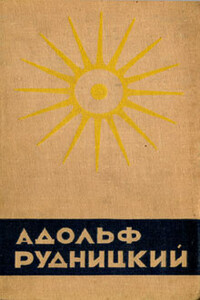Автопортрет с двумя килограммами золота | страница 2
В других письмах, приходивших с Запада, эмигранты нового выпуска жаловались, что ежедневно на них обрушивается неслыханное количество иностранных слов. «Прямо-таки невозможно себе представить, что на свете есть столько иностранных слов». После таких известий хрустящие булочки с нежно-розовой ветчиной, запиваемые в Z. вином польских слов, приобретали просто райский вкус; а потом, наевшись булочек, приятно было вернуться в свою комнату, свысока поглядеть на мир и погрузиться в стихи немецкого поэта Райнера Марии, пишущего на вечные темы.
Во второй половине июня 1941 года я запихнул в потрескавшийся, словно паутиной покрытый чемодан некоторое количество необходимых вещей и уехал в украинскую деревушку, расположенную километрах в тридцати к западу от Z. Я рассчитывал провести в деревне две недели. В мои планы входил отдых, отягощенный работой, и работа, смягченная отдыхом. Мне хотелось за это время окончательно сладить с формой нескольких стихотворений, и в особенности одного — «Herbsttag»[1], начинавшегося словами: «Herr: es ist Zeit. Den Sommer war sehr gross»[2]. Уже существовало не то шесть, не то восемь польских переводов этого стихотворения, но ни один из них мне не нравился. Правда, маленький Клецкий — высочайший авторитет в вопросах поэзии — отговаривал меня, уверяя, что именно в этом стихотворении есть нечто такое, что я не услышу до сорока лет; маленький Клецкий делил литературу на две части — одна написана до сорока лет, другая — позже сорока лет; мне исполнилось двадцать пять, поэтому он считал, что у меня еще пятнадцать лет впереди, но я все-таки решил испытать свои силы.
Итак, я уехал в деревню и снова стал тем, чем был, — деревенским парнишкой, к сожалению немножко продвинувшимся «в долину лет», постаревшим; в деревне молодость рано кончается. По сути дела, я всегда ненавидел города — я задыхался из-за недостатка воздуха, страдал головной болью, меня пугали каменные потоки улиц, лишенные клочка зелени. В городе я непрерывно тосковал по деревне; как все поэты, родившиеся в деревне, и как все деревенские поэты, я неотступно торчал в городе, хотя он стеснял меня, как власяница. Даже на каникулы я уезжал в деревню менее охотно, чем мои городские товарищи, ибо для них это была только поездка на свежий воздух, а для меня не только. Но, как я уже говорил, во второй половине июня 1941 года я сбросил власяницу и уехал в украинскую деревню. Поселился я у крестьянина-украинца в отдельном домике, жил в комнате с дурманящим запахом свежей известки, чисто вымытого пола и холодной родниковой воды в медном тазу. Погода стояла чудесная, и я целыми днями бродил по лугам, выкрикивая названия ста видов полевых цветов, — критики называли томики моих стихов гербариями, — в лесу откликался на голоса птиц строфами Райнера Марии, шлифовка которых все еще меня не удовлетворяла. Я бездельничал тогда, не бездельничая, засыпал не всеми клетками мозга, в какой-то одной — непрерывно, днем и ночью, во сне и наяву — шла трудная работа: все более глубокое проникновение в поэзию Райнера Марии. Пока однажды ночью, не могу точно сказать в котором часу, я сбросил с себя одеяло, проснулся и вскочил с готовым, законченным переводом. Зажегши свечу, я внес окончательный вариант в тетрадь горохового цвета, называемого «пехотным», загнал туда свое вдохновение, как птичку в клетку, после чего чудесно заснул. О, не много ночей в моей жизни я так сладко спал!