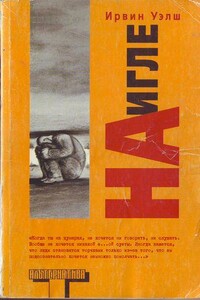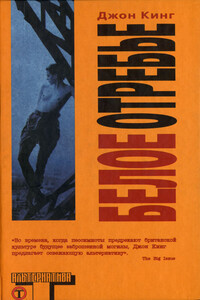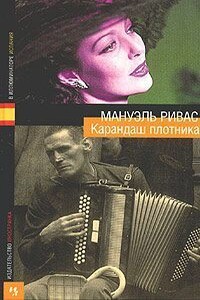Размышления о чудовищах | страница 94
Бласко, поэт трагических лун, певец похмельных рассветов, работает над взрослым племенем. Он завсегдатай дискотек, специализирующихся на увядающих клиентках: разведенных в возрасте, холостячках в возрасте, вампиршах в возрасте… (Все в возрасте.) И вот этих королев он обхаживает, когда не гуляет с нами: он надевает свой черный костюм и черный галстук, и покрывает волосы лаком, и ухаживает за женщинами при помощи симфонических и мрачных стихов или речей, являющих собой смесь лиризма и гнусности, и этот коктейль срабатывает, по его словам, потому что суть вот в чем: начиная с определенного возраста все нуждаются в сентиментальности и в цинизме, в смеси обеих этих вещей, именно так, потому что почти никого не интересует каждая из них, явившаяся в отдельности. (Возраст — это плохая штука, в конечном счете. Для всего. Для разума, для простаты…) (Для всего.) Однажды мы пошли вместе с Бласко в одно из его заведений, в «Эмбрухо», и, по правде говоря, мы чувствовали себя там как одичавшие коты, бродящие вокруг рыбных магазинов, в ожидании того, пока им кинут то, что вот-вот начнет тухнуть. (И мы больше уже не ходили в «Эмбрухо».) (Потому что нам показалось, что мы слишком близки к тому, чтоб согласиться с тем, что мы — даже не коты, а также еще и тухлая рыба.) (И заметно было, кроме того, что свергнутые с трона королевы считают себя не тухлой рыбой, а ангорскими кошками.) (Ну, кроме одной, очень пьяной, той, что там плакала.)
У Мутиса — мало женщин, но именно ему обычно достаются самые лучшие, из всех нас четверых. Почти все его девушки — его ученицы: на каждом курсе он встречает какую-нибудь полупсихопатку, полупоэтическую натуру, полу-gore[29], увлекающуюся черным бельем, какую-нибудь почти девочку, еще не оформившуюся, хотя и с сознанием, зараженным неконкретными страхами, и он ложится с ней в постель или ограничивается тем, что гуляет с ней по барам, показывая ей удовольствия и ужасы этого мира, на манер апокалиптического духовного гида, ненормального и молчаливого.
Кстати, однажды я был у Мутиса дома. Я спросил его, есть ли у него какая-нибудь книга о пресократиках, и он ответил мне, что, разумеется, есть, и чтоб я приходил как-нибудь к нему домой, и я пошел к нему домой.
Дом Мутиса — это необыкновенный дом, он до отказа набит большой темной мебелью, тенебристскими картинами, вещами столетней давности, похожими на готические, без блеска, в пыли. Потом я узнал, что раньше это был дом его родителей, и узнал, что его отец также был профессором латыни и провел всю свою вдовую старость, денно и нощно переводя длинные поэмы Вергилия, потому что не хотел ничего знать ни о реальности, ни о мире, он ни с кем не разговаривал, ничего не слышал, и, если верить тому, что мне рассказал Хуп, закончив переводить полное собрание сочинений Вергилия, он снова принимался переводить его, по-новому, и дошел даже до того, что перевел «Энеиду» на греческий в ожидании, пока смерть не оборвет одним движением эту добровольную муку Сизифа-переводчика, ведь этот человек, по-видимому, презирал свою собственную жизнь. (Кто знает.) В общем, молчаливость Мутиса, возможно, досталась ему по наследству, хотя Мутис еще не дезертировал из авантюрного предприятия жизни и, полагаю, поэтому путается с нами.