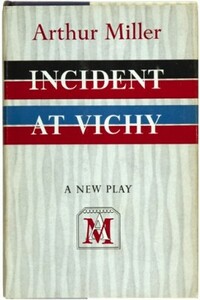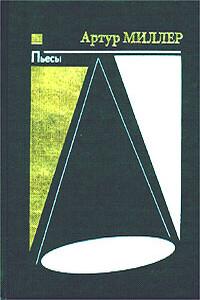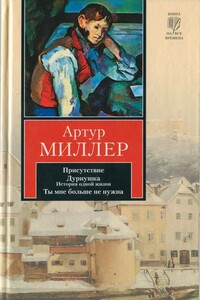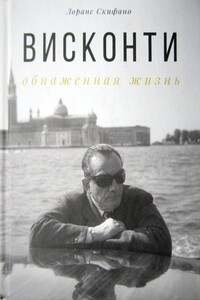Наплывы времени. История жизни | страница 11
Восторг, с которым тогда относились к наступившей эпохе джаза, я перенял в основном от женщин, мамы и ее подруг. Когда мама обрезала длинные волосы, это было ударом для Кермита, он долго не мог простить ей, что его не предупредили. В свои пять-шесть лет я, конечно, был очень наивен, но уже знал, что в жизни женщин есть неуловимая тайна, и однажды теплым вечером, водрузив на себя одну из отцовских соломенных шляп, спустился на лифте вниз и уселся на ящике у подъезда, с тем чтобы привлечь чье-нибудь благосклонное внимание. Этот всплеск чувственности был не столько выражением физической потребности, сколько потешил душу, надолго оставшись ярким воспоминанием. Однако в целом это свидетельствовало о невоздержанности и неспособности жить в ожидании осуществления желаний. Я должен был немедленно овладеть тем, чего желал. Увидев что-нибудь необычное, я испытывал непреодолимую потребность обладать этой вещью, и потому моя жизнь, в отличие от сдержанного и размеренного существования брата, была чередой обуревавших меня желаний, которые требовали сиюминутного удовлетворения. Прошло немного времени, и меня стали преследовать наивные, но очень яркие образы, связанные с комплексом вины. Когда за окнами нашей квартиры на верхнем этаже бушевал ветер с дождем, в неверном свете мне чудилась огромная беснующаяся обезьяна, которая, оскалив пасть и раскинув мокрые лапы, пыталась залезть ко мне в спальню (за год до этого на улице в Рокавее меня укусила обезьянка шарманщика, которую я пытался погладить, — схватив мой палец, она не разжимала пасть, пока хозяин ее не шлепнул). Я незаметно стал неисправимым лунатиком, слонялся по коридору и в состоянии глубокого сна заглядывал в спальню к родителям. Как-то раз, внезапно очнувшись, я увидел, что свисаю головой вниз из окна шестого этажа, выходившего в колодец двора. Осознав это, я почувствовал, что меня пронзил страх высоты, от которого я так никогда и не избавился.
О том, что евреи «книжные люди», я впервые услышал скорее всего, когда пошел в колледж, но никак не связал это с Библией, решив, что они просто много читают — это было лестно, но несколько странно. До двадцати лет я жил в еврейской среде, но не помню, чтобы кто-нибудь читал, за исключением матери. У наших друзей на 110-й улице книг дома вообще не было, а на полках стояли безделушки — фарфоровые дамы в кринолинах XVIII века, фигурки лошадей, голландский мальчик в деревянных сабо, затыкающий пальцем плотину, колодезная бадья на веревке, ну и бюст Линкольна. Даже мама редко покупала книги — обычно она брала их в общественной библиотеке недалеко от нашего дома на углу Пятой авеню, а когда мы переехали в Бруклин — в платной библиотеке у Вомрота, который содержал аптеку и брал за книгу два цента в день.