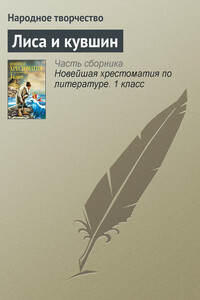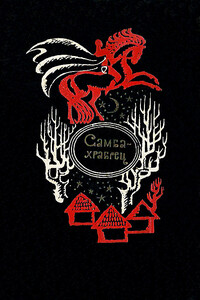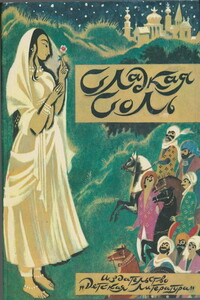Старины и сказки в записях О. Э. Озаровской | страница 17
1 июня 1921 г., опять-таки по инициативе О. Э. Озаровской, студентка Института слова Анна Дмитриевна Ипполитова была отправлена на Пинегу для того, чтобы привезти М. Д. Кривополенову для участия в концерте в день открытия третьего конгресса III Интернационала. 19 июня пинежская Махоня уже находилась в Архангельске, где прошло ее выступление, сопровождаемое пояснениями начинающего писателя Б. В. Шергина.[34] 21 июня М. Д. Кривополенова поспела в Москву на закрытие конгресса. Затем состоялись ее выступления в Московской консерватории, в Институте детского чтения Наркомпроса. В 1922 г. О. Э. Озаровская переиздала «Бабушкины старины», дополнив их заговорами, песнями и сказками.[35] М. Д. Кривополенова скончалась 2 февраля 1924 г. у себя на родине на Пинеге. Кто-то из местных учителей прислал О. Э. Озаровской письмо с описанием последних часов жизни Махони: «Я и еще несколько человек сидели в одном доме, как бабушка попросилась ночевать. Бездомная, почти совсем слепая и глухая, она занемогла и лежала на печи в сильном жару. В бреду она затянула былину и, пробудившись от собственного пения, очнулась. Увидев, что тут сидят все любители ее старин, она уже сознательно стала петь и пела, пела… вплоть до агонии, когда за нею приехали сродники».[36]
В 1920-е гг. О. Э. Озаровская совершила несколько фольклорно-этнографических экспедиций на Русский Север. В 1921 г. по поручению Наркомпроса она поехала на Кулой, когда-то настороженно ее встретивший во время Первой мировой войны. В экспедиции участвовали ученицы О. Э. Озаровской А. А. Рязанова, А. П. Соколова, А. Д. Ипполитова и художник А. И. Зуев. Время было трудное, голодное. Деньги на Кулое не ценились. Поэтому для установления добрых отношений с местными жителями экспедиционеры везли с собой муку и лекарства, столь нужные северной деревне. Российская смута тяжелым катком прошлась и по жителям первопрестольной, за несколько лет неузнаваемо изменив их облик. Сказитель былин из Карьеполья Н. П. Кырчигин (Крычаков) долго вглядывался в О. Э. Озаровскую, пока не признал в ней «московку» 1916 года: «Та сама, и впрямь та сама, сказывали уж. Да где ж твоя басота, да где ж твоя лепота? Весь тук сронила… Тьпфу!» [Озаровская 1928: 408]. «Тук» — полноту, ей свойственную, — она, действительно, «сронила» в голодные годы Гражданской войны.