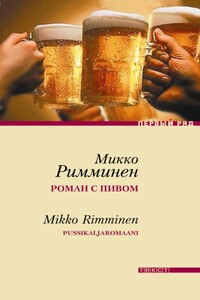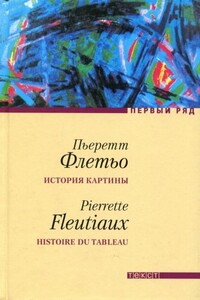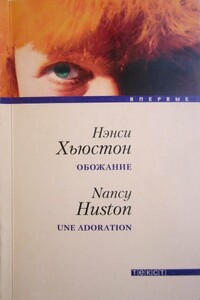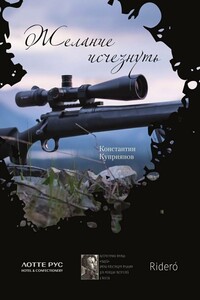Линии разлома | страница 39
В ночные часы, когда мы летели над Атлантическим океаном, маме пришлось дважды встать, чтобы помочь бабуле Сэди добраться до туалета. Это целая экспедиция.
Но вот мы прибыли в Мюнхен, и воздух сразу наполнился непонятными словами. Я счел это личным оскорблением, они меня прямо душили, я уцепился за мамину руку и что было сил вслушивался в ее разговор с бабулей Сэди. Я всесилен и всезнающ, но сейчас в этом гигантском модерновом аэропорту волей-неволей чувствовал себя, будто самый обыкновенный маленький мальчик, и наверняка выглядел растерянным. Когда мы добрались наконец до раздвижных дверей, за ними уже ждал папа; на лицо он наклеил широченную улыбку, по сути означавшую, что он предпочел бы не переживать всего того, что ему уготовано в ближайшие дни. Он повел нас к машине, которую нанял здесь же, в аэропорту; одной рукой он подталкивал катучее кресло своей матери, в другой тащил чемодан, одним ухом слушал речи супруги, другим — материнские, одним глазом следил за сынишкой, другим проверял, нс потерялась ли в толпе его обожаемая бабушка.
Я устроился между мамой и ПРА на заднем сиденье машины, а бабуля Сэди села впереди, разложив на коленях карту, а то ведь папа ничего не смыслит в здешних дорожных указателях.
— Скорее говори, куда поворачивать — налево?
— Направо! Направо! — вскрикивает бабуля Сэди, она-то по-немецки говорит бегло.
— Черт! — бормочет папа, успевая развернуться в последний момент, а мама ему:
— О Рэндл, это на каком языке? Что за слово такое?
Но ее шутка терпит крах.
— Черт побери! — с чувством твердит папа. — Не хочешь ли сама сесть за руль, а, Тэсси?
Мама краснеет и съеживается.
Мне тоже не нравится, что указатели на немецком языке. Это как двери, которые захлопываются у тебя перед носом одна за другой. Я упорствую, не спрашиваю у бабули Сэди, что значат все эти надписи: отказываюсь признать, что чего-то не понимаю. Нет уж, к тому времени, когда я достигну совершеннолетия, все обитатели планеты обязаны перейти на английский, а если сами не додумаются, это станет одним из первых законов, которые я провозглашу, как только приду к власти. Меня воротит от чуждости этой страны, знобит аж до гусиной кожи, и мой шрам, хоть и спрятан под ермолкой, становится еще отвратительнее. Я тщусь заново позолотить свой герб, отшлифовать ордена, напомнить себе, что я — шестилетний ребенок, гениальнее которого нет на всей Земле, но это не так-то просто, когда сидишь в машине, которая чуть не лопается от нервного напряжения, нагнетаемого подспудными трениями взрослых; хорошо хоть мама тихонько пожимает мне руку, подбадривает.