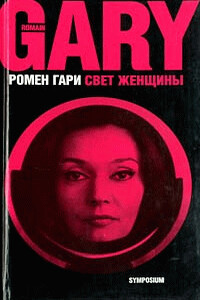Большая барахолка | страница 70
— Леонс!
— Что?
— Как ты думаешь, на свете правда есть люди?
— Ох, отстань!
Но где же, где они, эти самые люди, о которых столько говорил мой отец и все вокруг все время говорят? Иногда я слезал с кресла, подходил к окну и смотрел на них. Они шагали по тротуару, покупали газеты, садились в автобус, одинокие пылинки, которые приветствуют и избегают друг друга, пустынные островки, которые не верят в существование материков, — отец солгал, нет никаких людей, и то, что я вижу на улице, — не люди, а только их одежки, обноски, лохмотья; весь мир — один большой жестар-фелюш с пустыми рукавами, и братской руки мне никто не протянет. На улице толпились пиджаки и брюки, шляпы и ботинки — то была огромная заброшенная барахолка, которая стремилась всех одурачить, присвоить себе имена, адреса, идеи. Напрасно я прижимал пылающий лоб к стеклу и искал тех, ради кого умер мой отец, — я видел только жалкую барахолку и тысячи личин, злых пародий на человеческие лица. Кровь отца пробуждалась во мне, стучала в висках, заставляла искать смысл того, что со мной происходит, и некому было сказать мне, что от жизни не требуют смысла, что его в нее вкладывают, что пустота вокруг возникает тогда, когда мы ее не заполняем, что жизнь встречает нас с пустыми руками и нужно приложить все силы, чтобы от этой встречи она обогатилась и изменилась. Я был крысенком, бедным крысенком, попавшим в узкую щель эпохи, которая скукожилась до границ видимого и осязаемого, и некому было открыть крышку, выпустить меня на волю и просто-напросто сказать: не в том трагедия человека, что он страдает и умирает, а в том, что он не видит ничего, кроме собственных страданий и собственной смерти… Прошел еще один день, мы сидели, закутавшись в свои широченные пальто, смолили одну за другой сигареты, не успевая потушить окурок, смотрели, как открывается и закрывается дверь, как все быстрее входят и выходят доктора, как пробегает через коридор сестра.
— Они ведь ничего такого не устроят? Ведь правда… а? — повторял Леонс.
Но вот вышел доктор, снял свои очки. За ним сестра и ассистенты.
— Мы больше ничего не можем сделать, — сказал доктор. И сердито прибавил: — Девочку привезли слишком поздно. У нее запущенный туберкулез, она болела много лет.
Я встал. Вошел в палату, подошел к постели. Взял руку Жозетты. Мне показалось, что она мне улыбнулась. А может быть, улыбка была на лице еще раньше, не знаю. Глаза были открыты, это точно. Смотрели прямо в потолок, как будто бы уперлись в крышку. Дальше у меня в голове все смешалось. Помню только, что я несколько часов просидел, держа ее за руку, и эту неподвижную улыбку, и застывшие глаза. Мне что-то говорили, меня куда-то тянули… И еще помню свой голос, голос крысенка, который горько всхлипывал и бормотал в мокрый шарф: